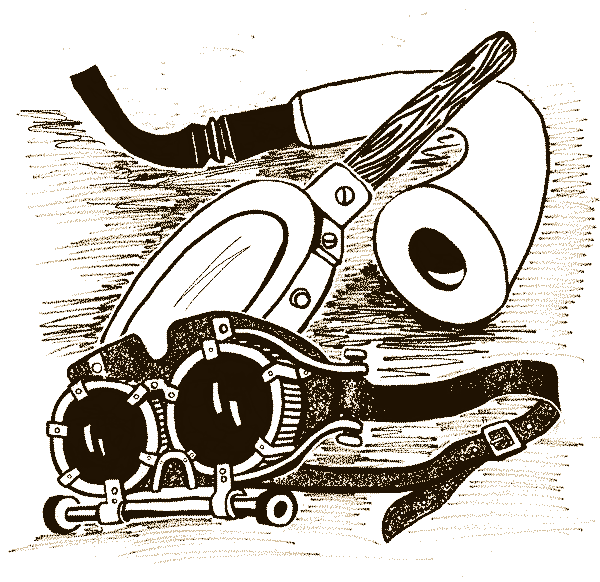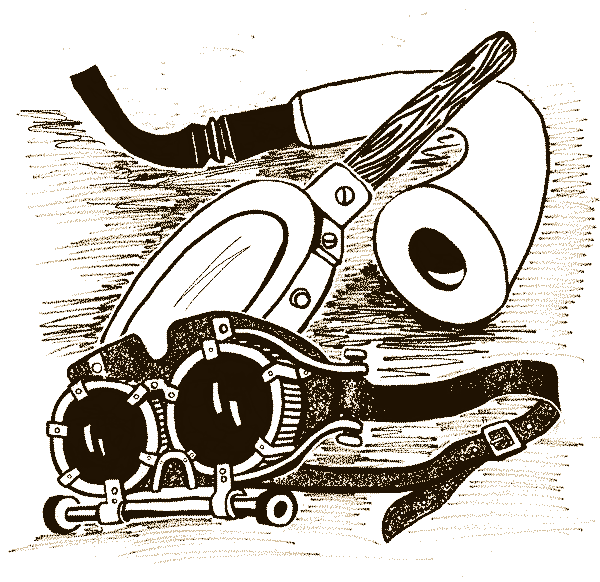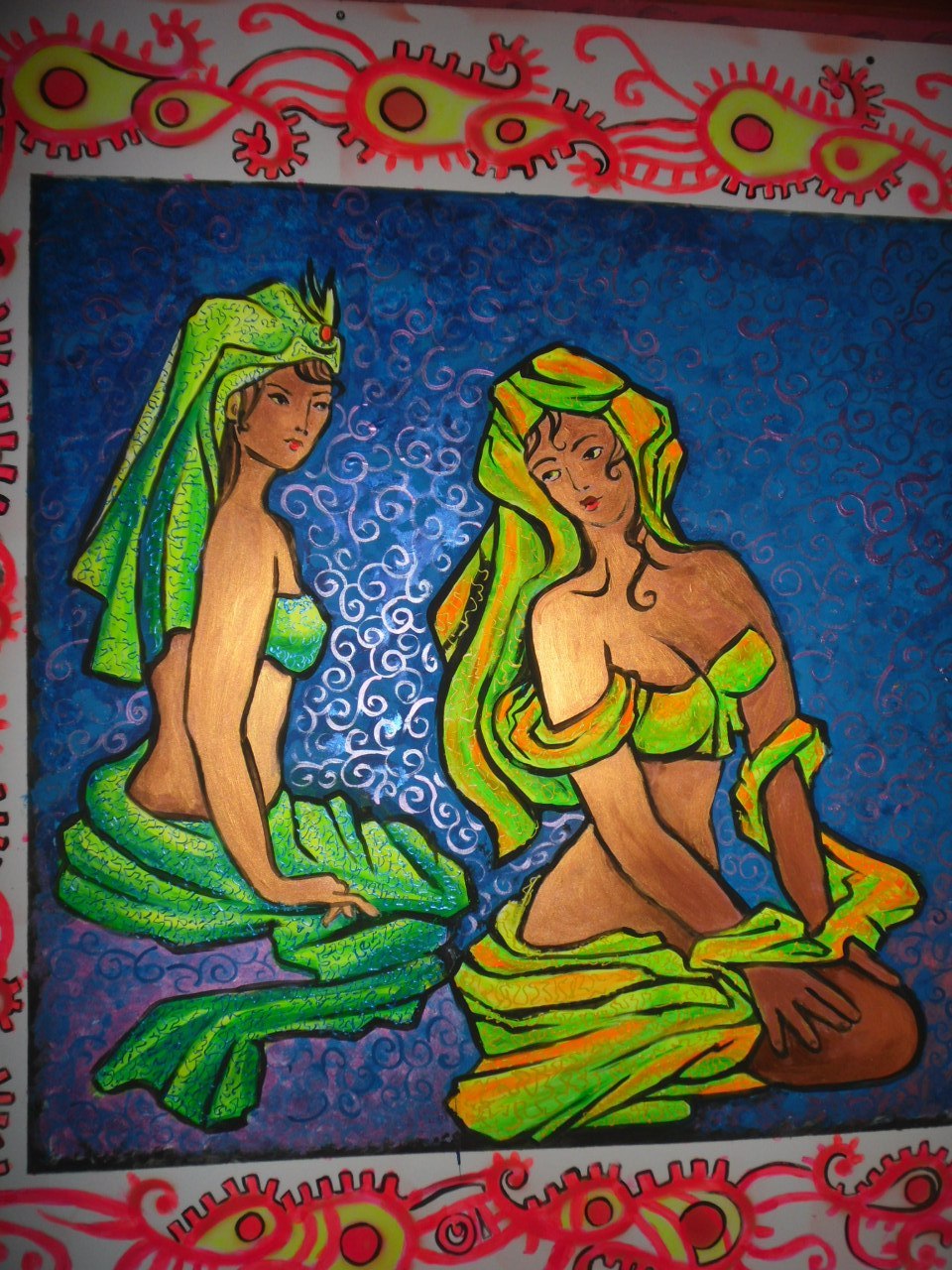Он сидел на решётке воздухозаборника метрополитена — очевидно, грелся, ночь выдалась довольно холодной. В первый миг мне показалось, что он одет в комбинезон камуфляжной расцветки — будь в моей груди сердце, оно бы наверняка пропустило удар, настолько похож он был на уменьшенную копию солдата-ветерана — но не нынешнего, а времён Нашествия и Всемирной войны. Но это, конечно же, был не камуфляж — всего лишь пятна грязи и сажи да неверная игра теней. Он был голым и грязным, как и подобает ему подобным. И он жрал. Слава Всевышнему, на сей раз это была всего лишь крыса…
Мы заметили друг друга почти одновременно — но всё-таки я на долю секунды раньше. И это позволило мне увидеть, как он меняется, во мгновение ока переходя от сытой и почти безмятежной расслабленности к напряжённой готовности напасть или спасаться бегством. До него было шагов семь, а то и больше — слишком далеко для удачного рывка, тем более что подвальное оконце с разбитым стеклом было у него буквально под боком. Отвратительное оконце — как раз подходящее по размеру для него, но слишком узкое для меня. Я замер, боясь спугнуть тварёныша резким движением… и понял, что решение мною уже принято — ведь убить его я бы мог совершенно спокойно и с куда большего расстояния. Что ж, невозможно угодить сразу всем. Дело за малым — захватить чуткую и осторожную тварь с минимальными повреждениями, чтобы мною остались довольны хотя бы контрразведчики. Впрочем, долг ветерана тоже будет исполнен, пусть и не совсем обычным образом — я удалю с улиц чудовище, убивающее женщин и детей. И, возможно, смогу спать спокойно, хоть какое-то время. Возможно…
Тварь меж тем запрокинула голову, принюхиваясь — в желтоватом свете фонаря я отчётливо разглядел перепачканные в крысиной крови губы, когда они вдруг растянулись в… оскале? Нет. В улыбке. Самой настоящей улыбке — тварёныш узнал меня. Его поза утратила большую часть напряжения, став слегка настороженной, не более. Что ж, это к лучшему. Если он помнит меня и доверяет мне хотя бы частично — его будет намного проще поймать. Тут как с приручением диких животных — главное, не торопиться и не делать резких…
Бросился на меня он совершенно неожиданно, почему-то отталкиваясь только одной рукой и ногами, как собачонка с покалеченной лапой. Но это не мешало ему быть невероятно быстрым — я успел заметить лишь размазанную полосу, стремительно выстрелившую от вентиляционной решётки к моим ногам и тут же рывком отдёрнувшуюся обратно. Я не успел бы его схватить, даже если бы и ожидал чего-то подобного. Я и нагнуться бы не успел. Неужели все детёныши настолько стремительны? Или… страшно подумать, он — прогрессирует?
Вернувшийся на тёплую решётку тварёныш тем временем окончательно расслабился, словно своим стремительным броском мне под ноги и обратно он то ли что-то самому себе доказал, то ли окончательно убедился в моей безвредности. Не спуская с меня глаз и по-прежнему широко улыбаясь, он перекатился с четверенек на попу и похлопал ладонью по металлическим прутьям рядом с собой, заинтересованно прислушиваясь к издаваемым теми звукам. И тут я понял, что его руки пусты — обе. Полуобглоданный трупик крысы остался лежать у моих ботинок.
Не знаю, что это было — действительно благодарность или голый инстинкт, примитивное заискивание перед более сильной особью одного с тобою вида, одинаково свойственное всем тварям, независимо от степени их разумности или даже витальности. Да и не хочу знать. Для меня это был знак свыше.
Я не буду больше его ловить. Не позволю умникам с Рита-роуд превратить в супероружие и использовать в своих целях — наверняка грязных, у контрразведки иных не бывает. Я его убью. Убью быстро и по возможности безболезненно. Окажу высшее милосердие, которого только и может ждать ветеран от ветерана. И пусть он никогда не был солдатом, пусть он всего лишь безмозглая жертва давно закончившейся войны — но он поделился со мной самым ценным, что имел. И я не посмею отказать ему в такой малости. Я сумею сделать это быстро и чисто, надо лишь поднять правую механистическую руку и по-особому напрячь бронзовые сочленения кисти, запуская в действие синтезатор пуль из твёрдого кислорода…
Сочное хрупанье стекла о булыжную мостовую и последовавший за ним горестный вопль разорвали ватную тишину, ранее лишь слегка разбавляемую шипением ближайшего фонаря. Вопль перешёл в полузадушенный хрип и почти сразу сменился иканием. Машинально обернувшись на звук, я увидел пьянчужку, вырулившего из-за угла и стремительно трезвеющего над оброненной бутылкой. Не знаю, много ли он успел увидеть, но глаза у него были хороши. Я отвлёкся лишь на долю секунды — но когда снова перевёл взгляд на вентиляционную решётку, она уже была пуста. Впрочем, это не имело значения. Теперь, когда решение принято, всё постороннее отдалилось и стало неважным. Так она всегда и срабатывала, пресловутая "кнопка контроля", что внедрялась таким как я глубоко в подсознание — и которой напрочь лишены те, кто мёртв от рождения. Главное — понять, в чём именно состоит твой долг, остальное происходит словно само собой. Да, мы монстры — но мы монстры на службе правительства, лояльные и управляемые. Ребёнок же не способен контролировать даже сам себя — а значит, он не поддастся и контролю извне. Он неуправляем. А что может быть страшнее совершенно неуправляемого маленького чудовища? Только неуправляемое чудовище, сумевшее вырасти.
Идти по следу оказалось неожиданно легко — то ли я сумел хорошо настроиться на тварёныша за время нашего недолгого контакта, то ли он сам хотел быть пойманным. Подсознательное стремление к смерти, довольно часто наблюдаемое мною у преступников, особенно маниакального типа. Кто знает, может, это закон природы и все кровожадные твари подвержены чему-то подобному? Я шёл быстро, почти бежал, ловя хлебные крошки намёков — сдвинутая крышка люка ливневой канализации, не в унисон с другими качнувшаяся ветка, тонкая струйка чуждого запаха, потревоженная поверхность мазутной лужи. Я почти бежал — и никак не мог его догнать, он всё время оказывался впереди. Мелькал на периферии зрения смазанной светлой тенью и тут же исчезал, ни обернуться, ни рассмотреть толком, ни прицелиться. А потом вдруг исчез окончательно. Нырнул и узкую бойницу подвального воздуховода и словно бы растворился. Я дважды обошёл квартал по кругу лишь для того, чтобы окончательно убедиться — он не пошёл дальше по подвальным переходам, которыми пронизана старая часть города, так и остался здесь. В этом доходном доме с небольшим внутренним двориком.
Дворик был крохотным, чуть ли не уже ведущей в него арки, дом когда-то, вероятно, знавал лучшие времена, но настолько давно, что напоминаний о том почти не осталось. Судя по многослойной штукатурке и окнам разного размера и формы, перестраивался не единожды. Сейчас четыре его этажа были поделены на три подъезда. В каждом по двенадцать квартир, типичные меблированные соты для одиночек и семей со скромным достатком. Объявлений "сдаётся внаём" или пустых ячеек напротив номеров квартир нет, значит, заселены все. У многих наверняка дети. Остаётся надеяться лишь на то, что никакой зверь не бесчинствует там, где живёт, а тут у тварёныша была явная лёжка. Эхо его эманаций многократно отражалось от стен и перекрытий и не давало точного направления, но безоговорочно доказывало, что бывает он здесь часто и подолгу. Весь маленький дворик ими буквально провонял. Запах — слово неподходящее, но я не могу подобрать другого. Нет, от тварёныша, конечно же, пахло, как и от всех нас — но то был алхимический запах, хоть и резкий, но чистый, почти стерильный, запах скорее лаборатории, нежели прозекторской или морга. То же, что я имею в виду сейчас и по чему любой из нас опознает своего в самой густой толпе и под самой изощрённой личиной, вряд ли имеет отношение к обонянию. Особая некроэманация, свойственная лишь неживому бытию и заметная только тем, кто сам уже перешёл "к альтернативному способу жизнедеятельности". Обычные люди её не замечают. Животные в этом отношении более чувствительны — не удивлюсь, если бродячие собаки обходят этот двор стороной: у лондонских шавок отличное чутьё на опасность. Я прождал до утра, но тварёныш больше не появился
И я вновь совершил ошибку — не первую и не последнюю. Я никому ничего не сказал, посчитав это личным делом между нами двумя, и никем более. Хотя, конечно же, обязан был доложить, если не начальству, то хотя бы тому же Маклину; дежуря посменно, мы наверняка подкараулили бы тварёныша. Но я не был уверен в том, какому долгу из двух предпочтёт следовать мой коллега и не хотел рисковать, выясняя это, а потому промолчал. Решил, что и сам справлюсь.
И снова ошибся.
Следующие две недели я приходил туда каждую ночь — но тварёныш ни разу не дал мне ни единого шанса. Он был дьявольски осторожен, всегда где-то рядом, но вне досягаемости, лишь обозначая присутствие, но не показываясь на глаза. Чувствовал он что или просто издевался? Не знаю. Но так продолжалось четырнадцать ночей — до той, последней, когда я увидел у подворотни припаркованный паромобиль без опознавательных знаков.
Шофёр кого-то ждал и не тушил котёл — я слышал слабое тарахтенье движка. Меня почему-то сильно встревожила эта машина, уместная на узкой и загаженной улочке Ист-энда не более, чем денди из высшего общества в низкопробном ирландском пабе. Водитель курил и стучал по мобильному телеграфу — я видел огонёк его сигареты и мог даже разобрать обрывки разговора. Я не очень хорошо ловлю телетайпные передачи на слух, но шофёр стучал достаточно медленно. Ничего интересного я не услышал — его просили подождать, а он ругался и говорил о тройном тарифе за простой, обычные деловые переговоры. Почему-то мне не хотелось показываться ему на глаза, но машина стояла слишком неудобно, перегородив подворотню. Пока я раздумывал, будет ли достойным человека моего возраста и положения опуститься на четвереньки и таким образом пробраться во двор под брюхом паромобиля, хлопнула дверца и шофёр вышел, намереваясь добавить и без того не слишком чистой улочке ещё немного жидкой грязи. Пока он сопел у стены и возился с застёжками, я бесшумно миновал машину с противоположной стороны и нырнул в тёмную подворотню.
Пройдя под низким арочным сводом, я осмотрелся. Освещения во дворе не было — фонарь над аркой оказался разбитым и давно не использовался по назначению, ни одно из окон не светилось: даже если кто из обитателей дома не спал, он предпочитал не тратить газ понапрасну. Двор освещало лишь слабое ровное зарево уличных фонарей, отражённое лондонской кровлей и не столько рассеивающее мрак, сколько подчёркивающее его.
Пока я разглядывал тёмные провалы окон, замок на двери среднего подъезда щёлкнул, скрипнули петли, и во двор осторожно вышла женщина с ребёнком на руках. Чуть постояла, давая глазам привыкнуть, и двинулась к арке, буквально нащупывая ногами дорогу. Она была без фонаря, да и не смогла бы его удержать: обе её руки были заняты огромным свёртком с младенцем, запелёнатым в ватное одеяло чуть ли не вместе с подушкой, а на левой ещё и висела сумка — скорее хозяйственная, чем дамская. Женщина прижимала её левым локтем к боку, правой рукой стараясь поправить завернувшийся край детского одеяльца. Пальцы её при этом чуть подрагивали — особенно указательный.
По этому лёгкому тремору правого указательного я её и узнал — недавно по долгу службы я наблюдал её роды (вполне успешные и закончившиеся
благополучно) и сразу отметил профессиональное заболевание пианистов и морзянщиков, чем немало удивил дежуривших у её палаты секретных агентов. Её вроде бы подозревали в шпионаже — или наоборот, хотели заставить за кем-то шпионить, но это меня не касалось, я сразу ушёл, как только принял ребёнка и удостоверился, что с ним всё в порядке. Как же её звали, эту телеграфистку? Кейт, кажется, или как-то похоже, что-то такое, почти германское. Рожая, она и "мамочка" кричала исключительно по-немецки, с отчётливым кёнигсбергским акцентом. Слишком отчётливым, я бы сказал, даже старательным. Быть немецкими шпионками нынче модно. И безопасно. Куда безопаснее, чем… Но это, опять-таки, не моё дело.
Я, конечно же, не помню всех, за чьими родами наблюдал, и уж тем более тех, с которыми всё обошлось
благополучно, но эти были совсем недавно, ещё и месяца не прошло. Не знаю, что уж там и кому показалось подозрительным в её беременности настолько, что Адмиралтейству потребовался ветеранский надзор, но родила она нормальную здоровую девочку. Живую. Уж настолько-то я не мог перепутать! Отец её ребёнка был живым человеком с горячей кровью, за это я могу ручаться. Не знаю, кто был её мужем — если один из наших, то я снимаю шляпу перед его мудростью. Чем плодить монстров, уж лучше отдавать всю свою нежность и душевную теплоту живому ребёнку, пусть даже в нём и нет ни капли твоей крови.
Как бы там ни было, эта женщина была живой, хотя и отчётливо пахла смертью, впрочем, как и всё в этом дворике. И ребёнок её тоже был живым, ворочался и слегка попискивал, словно ему было тесно в большом свёртке. Слишком большом — для маленькой девочки, которой нет и месяца…
Я шагнул им наперерез раньше, чем успел додумать эту мысль до конца
Эта женщина не знает, с кем связалась и чем рискует, она наполовину безумна, как и любая мать, ею движет лишь инстинкт защиты потомства, голая биохимия, необходимая для успешного выживания вида в целом, но сейчас ставящая под угрозу жизнь и самой телеграфистки, и её маленькой дочери, и всех, кто случайно окажется рядом. Остановить, уберечь, не дать чудовищу пополнить список своих жертв ещё и этими двумя именами. Но сначала чудовище следовало отделить от живого щита. И лучше выгнать на улицу — в этом крохотном дворике невозможно стрелять, слишком велика вероятность непредсказуемого рикошета.
Может быть, я двигался не настолько бесшумно, как мне казалось, или же её глаза быстрее привыкли к темноте, но мне не удалось подойти незамеченным. Она обернулась — резко, словно попавший в западню зверь, готовый дорого продать свою шкуру. Горькая ирония — защищаться от того, кто хочет тебя спасти! Требовалось срочно сменить тактику — я замер, выставив руки ладонями вперёд. Сказал, стараясь, чтобы голос звучал мягко и убедительно:
— Мэм, вам не стоит меня бояться. Я врач. Я вам помогу…
Почему-то эти слова её ничуть не успокоили. Более того — она отшатнулась. Сумка упала, по булыжникам раскатились женские мелочи. Отлично: упавшая сумка давала мне повод присесть, а раскатившаяся мелочёвка — причину оставаться в таком положении, собирая выпавшее. Я присел, бормоча себе под нос успокаивающие и бессмысленные слова о том, что всё в порядке, что сейчас мы всё соберём, я помогу, конечно же, помогу… О чём говорить — неважно, главное говорить, молчаливый человек всегда пугает больше, чем тот же самый, но болтающий без умолку. Собирать можно долго, собирать и болтать — до тех пор, пока она не успокоится. А она обязательно успокоится — трудно боятся того, кто бормочет всякую ерунду и к тому же смотрит на тебя снизу вверх. Хотя нет, лучше пока не смотреть — прямой взгляд тоже может насторожить или вызвать агрессию, это на подкорке…
— Вы!
Я всё же не удержался и взглянул на неё, поражённый тем, сколько же ненависти можно вложить в такое короткое слово. Она смотрела в упор, и от её взгляда у меня язык присох к нёбу. Я знал этот взгляд — видел такие не раз. Но, как правило, лишь у тех, чьи роды не кончались благополучно. Она тоже меня узнала. И это её не успокоило. Наоборот.
Я должен был что-то срочно сказать, но не мог найти нужных слов. "Мэм, я вам помогу, только доверьтесь…" — она не поверит. Она уже меня боится, слова бесполезны. Сумею ли я из такого положения выстрелить так, чтоб убить только тварь, не задев ни телеграфистку, ни её дочь? Ответ короткий — нет. Разве что только при помощи чуда, а в чудеса я давно не верю. Пальцы моей левой руки наткнулись на что-то тёплое и твёрдое. Детский рожок с подогретым молоком и гуттаперчевой соской, новейшие научные достижения для заботливых мам. Звяканье стекла о стекло в гулкой напряжённой тишине прозвучало неожиданно громко.
Два рожка.
Я поднял их на ощупь, намереваясь положить в сумку, поверх всего остального. Но замешкался. Рожки были разные. Белый и чёрный. Даже слабых отражённых отсветов далёких фонарей хватало, чтобы это понять. Два рожка, белый и чёрный — вернее, кажущийся таковым во мраке ночного уайтчепельского двора. Но даже если бы стекло бутылочек оказалось непрозрачным, я их всё равно не перепутал бы — они даже тёплыми были по-разному. Молоко подогрели, как это всегда делают с молоком; во второй же бутылочке жидкость просто не успела остыть.
Эта женщина знала, с чем она имеет дело, и приняла все возможные меры, чтобы себя обезопасить…
— Не двигайтесь! — не знаю, как и откуда она умудрилась вытащить пистолет, не отпуская детей. Может быть, заранее догадалась положить его под детское одеяльце, но теперь чёрное дуло смотрело мне прямо в лоб. — Не двигайтесь, и больше никто не пострадает. Мы просто уйдём. Уедем… далеко. Не двигайтесь. Пожалуйста. Он заряжен разрывными.
Я замер. Эта женщина знала слишком много. В том числе и о том, как убивать неживых.
Она отступила на шаг, не отводя пистолета. Потом ещё на шаг. Если я собирался что-то предпринять, нужно было действовать немедленно, следующий шаг — и она скроется в подворотне.
— Мэм! — окликнул я её тихо, по-прежнему не шевелясь и надеясь, что не ошибаюсь. — Возьмите сумку. Вам пригодится…
Кажется, я нашёл-таки нужные слова — она остановилась. Долгие две или три секунды смотрела на меня — просто смотрела, словно увидела впервые. Потом кивнула. Сказала просто, словно сообщая, что на улице идёт дождь:
— Спасибо. Помогите донести до машины.
Повернулась ко мне спиной и спокойно пошла к выходу на из подворотни. Я так и не успел заметить, куда она спрятала пистолет.
Я мог бы её догнать. Повалить, отобрать детей. Может быть, даже спасти и дочку, но её саму уж точно. Может быть, она даже не успела бы выстрелить. Я мог бы. Да. В крайнем случае — геройски погибнуть в попытке исполнить миссию, оказавшуюся невыполнимой.
Но вместо этого я просто донёс её сумку до паромобиля, а потом стоически принял на себя гнев разъярённого таксиста. Выгреб ему всё, что было в кармане, не глядя. Наверное, там оказалось слишком много — если судить по тому, как быстро он сменил брань на приторную любезность. Машина рванула с места неожиданно резво — котёл, похоже, был слегка перегрет и шофёр не просто так нервничал. Я долго смотрел вслед, даже когда её обтекаемый силуэт окончательно растворился в привычном желтоватом тумане.
Может быть, эта женщина знает, что делает, и сумеет не только вырастить его, но и воспитать. И даже воспитать человеком… Может быть, она найдёт — или уже нашла — верный способ. Или другие найдут — там, далеко, где странный то ли тюремщик, то ли учитель умудрялся делать людей из настоящих волчат, не прибегая при этом к методике доктора Моро. Может быть, у него и получится. Если у кого и получится, то только у него. Или же я просто старый глупец, верящий в ерунду. И эта женщина тоже — просто самонадеянная глупышка, ещё одна жертва чудовища, вместе со своей крохотной дочкой и десятками, сотнями или даже тысячами чьих-то ещё дочерей. И лучше бы я убил её сейчас, я ведь смог бы сделать это не больно. Может быть, так было бы лучше для всех.
Двумя неделями ранее на Кейбл-стрит я был уверен, что защищаю будущее. Но кого я защитил сегодня на Уайтчепел-роуд?
И кого — предал?
* * *
— Думаю, Ватсон, вам будет небезынтересно узнать, что Уэсты не убивали своего ребёнка, — произнёс Холмс, задумчиво разглядывая плавающее в пробирке нечто, больше всего напоминавшее белёсого червяка. Если, конечно, бывают червяки с маленьким желтоватым ноготком вместо головы. — Чужого, впрочем, тоже. Проведённые мною исследования неопровержимо доказывают, что этот мёртвый младенец годится им в прадедушки. Ему как минимум триста лет. Как и самому зданию, кстати. Помнится, как раз около трёх веков назад имел место небольшой скандал с одним довольно популярным в те годы архитектором — он любил замуровывать некрещёных младенцев в фундаменты и стены возводимых по его проектам церквей. То ли он строил не только церкви, то ли у него нашёлся подражатель из современников. Как бы там ни было, преступление было совершено, но по прошествии стольких лет приговор наверняка привело в исполнение само время.
Мы сидели в гостиной Бейкерстрита, прогулочного дирижабля класса яхта, ныне довольно старомодного, если не сказать антикварного, и вот уже почти полвека служившего нам с Холмсом домом. За панорамными окнами жёлто-серый сумрак самой обычной лондонской ночи потихоньку сменялся серо-жёлтым полумраком самого обычного лондонского дня. Я должен был бы радоваться тому, что всё наконец разъяснилось и мой друг не станет коллекционировать пальцы мёртвых младенцев. Но я чувствовал лишь опустошение. Холмс, конечно же, не мог не видеть мою подавленность, но вот причины её истолковал, похоже, неверно. Потому что, чуть помолчав, он добавил другим тоном и куда более мягко:
— Не вините себя, мой друг. Не вы это начали, не вам и заканчивать. В старые добрые времена младенцев убивали ничуть не реже, чем сегодня. Просто предпочитали использовать их трупы в качестве дармового строительного материала, ведь детей женщины всё равно нарожают новых, а за каждый кирпич надо платить.
Возможно, он пытался так пошутить, в своей обычной немного неуклюжей манере. А может быть, и нет. Не уверен.
Я больше ни в чём не уверен.