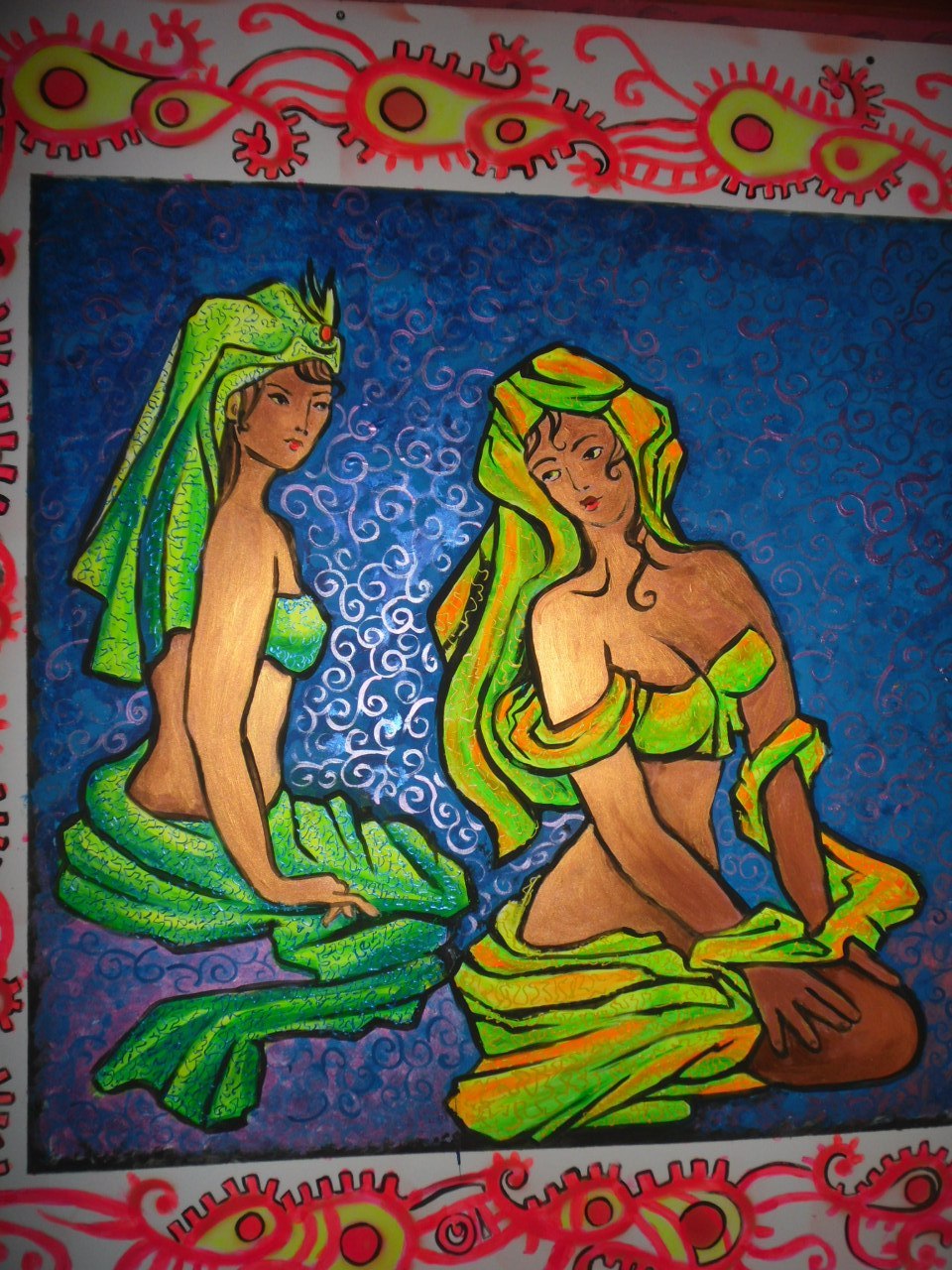Рустам Карапетьян ЩЕЛЧОК
У меня умер гномик. Он сначала заболел, а потом умер. Папа сказал, что это от старости. Что гномики живут намного меньше, чем люди. И что так иногда бывает. Это ведь папа мне его и подарил, когда я совсем маленький ещё был. Я тогда ещё только в детский сад ходил. Правда, уже в старшую группу. И вот однажды папа пришёл домой позже обычного. От него пахло морозом и смехом. — Отгадай, что я тебе принес? — весело заорал он с порога. Я тут же начал скакать вокруг папы и ныть, чтобы он скорее показал мне, что он принёс. А папа задирал к потолку руки с какой-то коробкой и кричал, что я должен пообещать себя хорошо вести. Ну, я, конечно, сразу пообещал. Я всегда обещаю. Правда, не всегда получается выполнять свои обещания, но это вовсе не потому, что я такой обманщик. Просто я часто про них забываю. Но ведь папа с мамой тоже всё время что-нибудь да забывают. Пообещают, например, в воскресенье в зоопарк, а потом идут на какой-нибудь скучный взрослый день рождения. Но я на них не обижаюсь. Вернее, обижаюсь, но потом прощаю. И они на меня точно так же: покричат, покричат за что-нибудь, а потом целоваться да обниматься лезут. Кстати, за то, что мы не пошли в зоопарк, папа и обещал мне подарок. Вот этот подарок он мне и принёс. И давай меня сразу дразнить. Но тут мама вышла в коридор и сказала, чтобы он прекратил, и папа прекратил. И, наконец-то, коробочка оказалась у меня в руках. Я сразу же стал её открывать. — Осторожней с ним! — предупредил папа — А что там? — насторожилась мама. Но в это время я уже открыл коробочку, и тут мы все увидели, что в ней сидит совсем еще маленький гномик. Он был такой, такой, такой… ну в общем, такой маленький и такой хорошенький! Мама сразу начала возмущаться, но папа твердо сказал: — Наш сын сам будет за ним ухаживать, правда? И я постарался таким же твердым голосом ответить: — Да, я буду сам за ним ухаживать! И мама сдалась. Ночь гномик провел в своей коробке, а наутро мы с папой съездили в магазин и купили ему уютный домик. Он был как настоящий, только совсем маленький. Там даже маленький дворик был, с огородом пластмассовым. Гному домик очень понравился. Он сразу в него залез и начал там чем-то шуршать. Папа сказал, что это он делает ремонт. Мне так хотелось хоть одним глазком взглянуть в окошко или дверь, но дверь была закрыта, а на окна гном повесил тряпочки-шторки. Я долго думал, как же его назвать, и назвал Робином. Потом я назвал его Бомбуром. Потом я назвал его Гимли. Но ни на какие имена капризный гномик не откликался. Так и ходил целый вечер без имени, пока папа случайно не щёлкнул несколько раз пальцами во время футбольного матча. Просто папа, когда очень волнуется, всегда щёлкает пальцами. А гномик взял и сразу к нему на щелчки прибежал. И стал вокруг папы волноваться. Я потом его специально подальше отнёс, а папа специально стал пальцами щёлкать, и гномик опять к папе прискакал. Вот мы его и решили назвать — Щелчок. В садике я сразу всем похвастался, что у меня теперь есть Щелчок. И все мне, конечно, обзавидовались. Даже Марьяна-задавала. Правда, она виду не подала, а только, как всегда, задрала нос и сказала, что гном — это фигня, а ей вот папа скоро привезет эльфа из поездки. И все сразу перебежали к Марьяне и стали её про эльфа допрашивать. А она ещё больше носом стала крутить, хотя никакого эльфа у неё вовсе и не было. А папа, может, и не привезет ей никого. А потом — ну и подумаешь, эльф. У нас во дворе у Томки-скрипачки тоже эльф есть. А у бабы Насти даже целых два: мальчик и девочка. Мы всё ждали, что у них потомство будет, но так и не дождались. Папа сказал, что эльфы в неволе не размножаются. Мы, когда про это узнали, сразу стали бабу Настю уговаривать, чтобы она своих эльфов на волю выпустила. Но вредная баба Настя губы поджала и сказала, что вот как помрёт, так пусть их и выпущают, и что она про это даже в завещании напишет, а пока брысь отсюдова. Так что у нас на весь двор целых три эльфа. А гном только один есть — у меня. То есть был. Я когда Щелчка гулять выводил, сразу полдвора сбегалось посмотреть. Потом, правда, попривыкли и уже не так сбегались. Но малышня всё равно вокруг крутилась и большими глазами смотрела. Щелчок тогда у меня уже несколько лет жил, мама ему такую классную одежду смастерила. А ещё пару костюмов мы ему по интернету заказали. Так что были у Щелчка и сказочная одежда для праздников, и обычная для гулянья. Но я его всё равно чаще в сказочной выпускал. Так нам играть было интересней. А самое здоровское, конечно же, было играть в прятки. Щелчок ведь совсем маленький, и так умудрялся спрятаться — фиг найдешь. Я один раз его, наверное, целый час искал. Я уже многие его любимые места к тому времени выучил. А тут всё проверил — ну нету нигде. А он, оказывается, ко мне в карман залез, да и заснул. Вот дурашка. Только когда я пальцами щёлкать стал, он проснулся и вылез из кармана. Я сначала хотел, чтобы Щелчок со мной спал, но мама сказала, что я могу его раздавить во сне. Я тогда испугался и не стал с ним спать. Но домик я на табуретку рядом с кроватью ставил, и Щелчок всегда со мной сидел, пока я не засну. Потом, когда я в школе уже учился, нам стали всё больше и больше уроков задавать. К тому же я ещё с Марьяной из нашего класса пошёл вместе танцами заниматься. И всё меньше у меня было времени с Щелчком возиться. Тот грустил, конечно. Ко мне всё приставал. Я сижу, уроки делаю, а он мне пятки щекочет. У меня контрольная завтра, а он мне — пятки. Я его тогда в домик относил и запирал, чтобы не мешал. Сейчас вот стыдно очень, а тогда я как-то и не думал даже. Мне ведь уроки надо было делать. Нет, я Щелчка не то чтобы совсем забросил — я и гулял с ним, и играл, но уже как-то всё меньше и меньше. К тому же я тогда о дракончике сильно мечтал. Они только-только появились, и все ребята о них мечтали. И папа обещал подумать об этом, если я школу хорошо закончу. Вот я и старался, учился. А Щелчок загрустил. Он уже даже не каждый раз прибегал, когда его звали. Щелкаешь, бывало, пальцами, а он так выглянет из окна — и опять спрячется. В то время гномы стали у многих появляться, и я хотел Щелчку подружку завести. Но мама сразу воспротивилась. Сказала, что одного Щелчка нам пока вполне достаточно. Но я его всё-таки иногда в гости к знакомым носил. И там гномы такие скачки устраивали — никакого цирка не надо! А потом он заболел. Мы врача знакомого вызвали, и он сказал, что это обычная болезнь для домашних гномов. Что они почти все ею рано или поздно заболевают в старости — от нехватки каких-то веществ. А каких — никто пока что не знает. И врач ушел, а я стал плакать. И мама, глядя на меня, заплакала, а папа ушел на балкон курить. Я потом месяц за Щелчком очень ухаживал, и ему даже вроде бы немного лучше стало. Когда я из школы приходил, он сам ко мне со всех ног бежал, чтобы я поиграл с ним. А уроки он уже мне не мешал делать, понял, что нельзя, и просто рядышком на столе сидел, тоже что-нибудь малевал на листочке. Или просто смотрел, как я читаю. А потом у меня начались контрольные в школе, и мне опять стало не до Щелчка. Ну просто целый день в библиотеке просиживал. Да и на танцах тоже подготовка к чемпионату началась. А Щелчок вскоре опять слёг и уже не поднялся. Я тогда последнюю контрольную написал, и мы с одноклассниками пошли есть торт к Марьяне. А когда я вечером вернулся, Щелчок меня встречать не выбежал. Мама сказала, что ему вдруг совсем стало плохо и он умер. Как врач и говорил — от нехватки каких-то веществ. Я заплакал и решил, что больше никого никогда заводить не буду, даже дракончика, чтоб никто и никогда в неволе от нехватки веществ не умирал. Потом я заперся в комнате, позвонил Марьяне и рассказал ей про Щелчка. А она обозвала меня придурком. Она сказала, что Щелчку не хватило ни каких-то там веществ, а простого внимания и любви. И что если я такой тупой, то она со мной даже и разговаривать больше не будет. И повесила трубку. Но тут же скоро сама ко мне прибежала. И мы устроили Щелчку похороны. Мы вместе с Марьяной отнесли его за город, на вершину небольшой горы, и похоронили в могилке. Я сам её выкопал. Щелчок был очень хорошим гномом. Но, наверное, ему и правда не хватило любви. Может быть, оттого, что он был такой маленький, мне казалось, что и любви ему хватит совсем маленько. А это совсем не так. Какого бы ты ни был роста, любви тебе надо много. Вот и Марьяна со мной согласна. Когда у меня будет сын, я расскажу ему эту историю про Щелчка, и мы вместе с ним погрустим. И что-нибудь с ним вместе поймем. А потом я подарю ему гнома.Рустам КарапетьянРодился в 1972 году в г.Красноярске. В 1994 году закончил психолого-педагогический факультет Красноярского государственного университета. Публикации в журналах «День и ночь», «Новый Енисейский литератор», «Контр@банда», «Литературный MIX «, «Огни Кузбасса», «Читайка», «Мурзилка», а также в различных антологиях и коллективных сборниках. Лауреат премии им. В.П.Астафьева за 2007 год (номинация «Поэзия»). Победитель конкурса «Король поэтов» 2008 (Красноярск). Дипломант конкурса «Золотое перо Руси-2010», «Золотое перо Руси-2013» в номинации на лучшее произведение для детей. Руководитель литературного объединения «Диалог» (Красноярск). Член союза русскоязычных писателей Армении и диаспоры Член красноярского представительства союза российских писателей Член редколлегии международного творческого объединения детских авторов Книга стихов для детей «Нарисованный слон» 2012 Красноярск, изд.»Поликор» В 2013 году вышло четыре небольших детских книжки в издательстве В.Квилория г.Минск Живет и работает в Красноярске.
Андрей Таран РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ, ТЫ ИДЕШЬ ИСКАТЬ
Ничего, если мы будем на «ты»? Это не панибратство, не приглашение к интиму. Просто нужно поговорить с умным человеком, посоветоваться, задать кое-какие вопросы — очень личные — из тех, что годами свербят в подвздошье, будят в грозовые ночи и не дают уснуть под влажной, путающей ноги простынёй. И ведь не спросишь о личном малознакомого человека, с которым на «вы». Здесь нужен близкий друг, понимающий. Вот я и обманываюсь выдуманным знакомством. Быть может, вопросы эти тебя удивят или позабавят, и тогда я оправдаюсь за навязчивость. В конце концов, ты всегда можешь выбросить их на помойку. А я нет. Живу с ними. Мне нужно знать. Ты любишь играть в прятки? Не для вида, не для того, чтобы побыстрее отделаться от маленького тирана, зудящего с комариным упрямством: «Поиграй со мной! Ну поиграй со мной, пожалуйста!» А так, чтобы все взаправду: и крепко зажмуренные глаза без плутовской щёлочки между ресниц, и торжествующее: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать!», и судорожные поиски укромного уголка, словно жизнь от них зависит. И горделивое осознание, что теперь ни за что не найдут, и будут звать, и испугаются до злобы и подзатыльников, а ты выскочишь с победным воплем и остаток дня сможешь дразнить неуклюжих и недогадливых взрослых. Ты ещё не забыл, как это было? Я — нет. Каждое чёртово мгновение. Тебе шесть лет. Меньше не надо — вспомнишь ли? Но и старше плохо. Там начинается школа, новые авторитеты шепчут странные пугающие откровения, а мир бледнеет, застирывается с каждым свежим знанием. Там граница, за которой чудеса превращаются в фокусы, а Дед Мороз умирает от менингита и алкоголизма. Но ты ещё не знаешь этого, тебе ещё наплевать на недомолвки, полутона и оговорки. Ты искренний счастливый маленький человечек. Сегодня выходной. Солнечные лучи играют с пылью на ковре, щекочут нос. Окна в квартире приоткрыты, лёгкий ветерок касается невесомого узорчатого тюля. Не знаю, почему ты сидишь дома в такой чудесный денёк, но мама категорична: — Никакой улицы! Спорить бесполезно, она уже отвернулась, гремит кастрюлями, выстукивает ножом дробь на разделочной доске, ругается, схватившись за горячее. Мама занята. Бабушка? Она старая, играть с ней неинтересно. Вечно сидит в кресле, дремлет, и телевизор включён на полную громкость. Хорошо, если бы она смотрела мультики, так нет — глупые сериалы, в которых темноволосые тёти с длинными тонкими носами ругаются со смуглыми дядями, потом долго плачут навзрыд, а разозлившиеся дяди уходят, хлопая дверьми. У тебя есть друг, Рафа, его мама с папой очень похожи на сериальных людей, и сам Рафа чёрненький, кучерявый, лупоглазый. Но он клянётся, что в его доме никто никогда ничем не хлопает. Глупый телевизор у бабушки. И такой же древний, как она. Два года назад ты проснулся среди ночи и босиком пошлёпал в туалет. Растрёпанный, в скособоченной пижаме, не открывая глаз и прислушиваясь, как свистят носами, храпят и ворочаются во взрослых комнатах. Ваша квартира, такая унылая, длинная и иссиня-мрачная в лунных отблесках, была полна этими звуками и шорохами; они убаюкивали, звали в постель. Ты всё сделал в темноте, не зажигая света, и уже возвращался, когда заметил на полочке у зеркала гранёный стакан. То ли бродяга-луч мелькнул в стеклянных рёбрах, то ли нечаянный сон наполз на явь, но ты отпрыгнул назад и, поскользнувшись, с полузадушенным взвизгом грохнулся на пол. Рассёк кожу на виске, разбил губу, но даже не заметил, а судорожно задёргал ногами, елозя босыми пятками по скользкой плитке и отползая подальше, пока не упёрся головой в ванну. По дороге обрушил ведро со шваброй. Мокрая вонючая половая тряпка упала на глаза, пыталась задушить, но даже через неё из гранёного стакана на тебя скалились кровавые зубищи ночных монстров. О да, ты заорал! Какой это был вопль! Сбежались все, щёлкнул выключатель, и тебя тормошили, и расспрашивали, и ахали вокруг ссадин, и ругались. А ты захлёбывался слезами, уткнувшись в мамино плечо, и украдкой подглядывал, как бабушка полощет в стакане вставную челюсть и засовывает её в рот. С тех пор ты не зовёшь бабушку играть. К папе приставать нельзя. Ты знаешь, что он «вкалывает, как проклятый», «горбатится сутки напролёт» и «имеет право немного отдохнуть в чёртов выходной». Приходится ждать, когда сам позовёт. Жаль, что это бывает редко. Но сегодня счастливый день (хотя и без прогулки) — на пороге твоей комнаты появляется добродушный отец и, широко распахнув могучие руки, кричит: — Ну, кто тут будет играть со мной в прятки?! И ты с визгом срываешься с места, игрушки шрапнелью разлетаются по комнате, а ты уже в объятиях этого огромного доброго прекрасного человека. Твоего папы. А он снисходительно тискает тебя и рокочет: — Кто водит, я? Тогда считаю. Кто не спрятался — я не виноват! Раз-два-три… Ты летишь в коридор, распахиваешь дверь в кладовку. Но не забираешься внутрь — это слишком просто, ведь папа наверняка услышит скрип петель и мигом тебя отыщет. Вместо этого тихонько прикрываешь дверь и крадёшься к стенному шкафу. Там, под ворохами полотенец и белья «про запас», старых дублёнок «на дачу» и заношенных отцовских курток, поместится кто угодно. Для тебя места более чем (достаточно?). Нужно лишь осторожно, без шуршания раскопать узкий лаз и гибким червяком ввинтиться вглубь. Ты знаешь, что шкаф старый, перекошенный, и фанерная облупленная дверь с мутным зеркалом закроется сама. Шикарнейшее укрытие. Ты замираешь, только сердце колотится часто-часто: найдёт? не найдёт? не должен… Для верности прикрываешь глаза и слушаешь, когда снаружи раздадутся отцовские шаги и знакомый голос взмолится: — Всё-всё, сдаюсь! Вылезай! Но пока тихо. От твоего дыхания вспархивают мельчайшие пылинки, дермантин старой куртки поскрипывает от каждого движения. В шкафу воняет клеем, навечно въевшимся в тряпьё, пóтом и чуть-чуть плесенью. Душно. Сидеть на ворохе одежды удобно, но всё время чудится, будто под тобой шебуршится облезлая наглая крыса, старый шкафной квартирант. Такая древняя, что не укусит, но всё равно мерзкая и противная. Эта крыса жила в шкафу всегда. Наверное, она забралась внутрь ещё на мебельной фабрике и не захотела вылезать. А может, её дом был очень-очень далеко, а сюда она ходила тайными, одной ей ведомыми тропами. На твоей памяти отец трижды перетряхивал шкафные внутренности, но ничего, кроме крысиного помёта, не находил. А уже ближайшим вечером из щёлочки в двери привычно шевелила длиннющими усами наглая серая морда с надорванным ухом и мутным бельмом на правом глазу. Эта крыса издевалась над твоей семьёй до тех пор, пока бабушка не принесла рыжую Люську. А шагов всё нет и нет. Ты начинаешь скучать. Медленно сдвигаешь мешок с нестиранным бельем и выглядываешь в щёлочку. Перед носом лист дверной фанеры, когда-то молочно-белый, а сейчас побуревший, в сетке продольных трещин и грязных потёков. Будто чужая посылка, брошенная почтальоном в лужу у подъезда. А ещё ты видел старый фильм про рыцарей, священников и эпидемию чумы, и там чёрные люди с факелами в точно таких облупленных ящиках хоронили мертвецов. Много мертвецов. Это было плохое кино, ты заревел, а мама ругала бабушку. И ты представляешь себе, что сидишь в том самом ящике, и вот-вот придут чёрные люди и кинут ящик в яму к десяткам таких же. Из-под одежды тянет мокрой землёй, в спёртом воздухе висит чад горящей смолы. Пряжка с отцовской куртки упирается тебе в бок, точно ржавый доспех. Ты обмираешь от жути. — Враки! — шепчешь с убеждённостью человечка, с которым не может случиться ничего плохого. — Это вранливое кино, такого не бывает. А я уже взрослый, чтобы пугаться глупых врак. Шагов всё нет. Двери старого шкафа отгородили мир, заперли звуки. Ты знаешь, что там, снаружи, остался шум маминой готовки, и бабушкин телевизор, и урчание кошки Люськи, и папина ругань, когда рыжая нахалка путается у него под ногами. Но ты не слышишь. Платья, бельё, дублёнки и куртки сожрали звук, заткнули уши комками жёлтой ваты. Только глупая муха, случайный сосед по фанерной тюрьме, надсадно жужжит над головой, с тупым упрямством тычется в стенки. И тогда ты понимаешь, что остался совсем один. И нет никакой разницы, в шкафу ты, или снаружи. Потому что там, снаружи, тоже никого. Но ты ещё не веришь. Смелый маленький человечек знает, что где-то есть чудовища и липкие ночные кошмары, злые ведьмы и косматые вонючие людоеды, ворующие детей, но в любой беде, в каждом горе родители всегда окажутся рядом, появятся в самую жуткую минуту. Маленькая ладошка упирается в грязную фанеру, дверь со скрипом приоткрывается. Тишина. Радостная муха вырывается из плена, еще миг — и её жужжание растворяется в пустых комнатах. Ты один. — Эй! — голос срывается на писк. — Вы где? Ты выбираешься в коридор, за спиной рушатся завалы старых одежд. Ерунда. Ты будешь счастлив, если на шум выглянет мама и заругается. Или разворчится бабушка. Или папа с суровой непреклонностью укажет в угол. Никого нет. Ты медленно, на цыпочках, обходишь квартиру. На кухне пусто. Грязные кастрюли и сковородки грудой свалены в раковину, плита холодная, на столе налёт пыли. К углам прилипла паутина, оконное стекло в разводах и птичьем помёте, занавески с сиреневыми цветочками обвисли ветхими сальными тряпками. В открытой сахарнице, забытой на столе, видны твёрдые комья, поросшие серо-бурой грибковой бахромой. Затхлый воздух отдает плесенью и старыми тряпками, точь-в-точь как в шкафу. — Мама! — зовёшь ты шёпотом и неуверенно улыбаешься. Наверное, взрослые хитрят: не сумели тебя найти и вместо того, чтобы признаться, спрятались сами. — Нечестно! — кричишь ты и пробегаешь одну комнату за другой, заглядывая в укромные уголки. — Мы так не договаривались! Я не играю! В туалете не спрятаться, разве что в чугунной ванне, свернувшись калачиком, но её проверяешь в первую очередь. Под бабушкиной железной кроватью лишь пыль и растерзанные кошкой старые тапки. В родительской комнате есть шкаф с раздвижными дверьми. Ты врываешься в него, сдёргиваешь с плечиков мамины платья и кофты, топчешься по отцовским костюмам. Ты — вандал, и требуешь наказания. Пускай приходят, пускай видят! И кричат, и ругаются, и папа тянется за ремнём. Аккуратные стопочки белья летят на пол, разваливаясь изломанными птицами. Ты карабкаешься наверх по полкам, словно по вантам пиратского корабля, — вдруг кто-нибудь притаился на антресолях? Хоть Люська, хоть та самая гадкая и страшная крыса… Снова кухня. Есть верный способ выманить маму. Ты забираешься в морозилку и тянешь наружу заиндевелый пластиковый трофей. — Эй, я достал мороженое! — орёшь в пустоту комнат. — Сейчас буду его есть! Целиком! Руками! Первый кусок обжигает горло. Кирпичным обломком продавливает гортань и вымораживает грудь. Он всегда самый вкусный, этот первый кусок, но нынче как раз вкуса и нет. Хоть сладкий пломбир, хоть горчица с пивом. Кстати… — Пап! Папа!!! Можно, я пива выпью? — ты нарочито грохочешь дверцей холодильника. — А какое лучше с мороженым — бутылочное, или в банке? Тишина. Ты с опаской разглядываешь добычу, расставленную на грязном липком столе. Нюхаешь папин любимый напиток: тьфу, гадость редкостная! Ковыряешься в мороженом, нехотя проглатываешь ещё кусочек. Оказывается, оно давно скисло и воняет рыбьей требухой. Как ты не заметил раньше? Во рту противно, язык облепила кислючая плёнка, щекочет, першит, дёргает. Пальцами до неё не добраться — слишком глубоко — и ты остервенело пихаешь в горло ложку. Трёшь язык, нечаянно сглатываешь, давишься и падаешь на пол в приступе жгучего раздирающего кашля. Мамы нет. Теперь ты знаешь точно. Иначе почему она не прибежала к тебе на помощь? И папы нет. И бабушки, и Люськи. Даже крысы нет. Никого нет. Нигде. Ты один. Выскакиваешь на улицу. По двору ветер гоняет чумазый пластиковый пакет. Тот подлетает выше голых колючих кустов, с шуршанием расправляется и, словно дурацкий парашют, медленно планирует вниз. У самой земли ветер снова хватает его, подбрасывает, и всё повторяется. Ты стоишь и смотришь. Схватил, подбросил, вниз… Схватил, подбросил, вниз… Ветер одинок. Стонут ржавые качели, пеняя на жизнь хрипло-скрипучим шёпотом старого курильщика. Ты вспоминаешь вдруг, почему мама не пускала во двор. Вчера на этих самых качелях, новеньких, весёлых, липких от свежей бирюзовой краски, раскачивался твой друг Рафа. Всё выше и выше. Размахивая тонкими ножками, вцепившись белыми пальцами в сиденье, но не останавливаясь — ведь ты обидно смеялся и кричал: — Слабó закрутить солнышко?! Рафа сорвался. Завис почти вверху, едва не перевалившись на полный круг, но вспотевшие пальцы разжались, твой друг пискнул по-заячьи, взбрыкнул ногами и упал плашмя, лицом в грязь и песок. Может, и обошлось бы, если бы Рафа не вскинулся с перепугу, не попытался встать. Деревянное качельное сиденье упало с неба, ребром ударило по тощей спине… Заборчик вокруг маленькой цветочной клумбы совсем развалился. Да и сама клумба похожа на чёрный великаний плевок, из которого торчат гнилые перекрученные кочерыжки. Скелеты розовых кустов, порченые мумии физалиса и пионов. Помойные баки забрались в центр огромной мутно-свинцовой лужи. Словно остовы древних кораблей — грязные, забытые, брошенные. И бурая пыль. Откуда столько пыли? На асфальте, на лавках, на грязных оконных стёклах, на пустом мёртвом небе. В пыли можно рисовать, можно разгонять её клоки сандалиями, можно набрать полные ладошки, прижать к носу и задохнуться. Ты бежишь со двора на улицу. Топоток твоих сандалий взлетает вверх, к плотоядным оконным провалам в уснувших домах. Те бросают вдогонку злое издевательское эхо. Ты вжимаешь голову в плечи, оглядываешься испуганно. Миг — и звук исчез, испарился. Оцепенелая тишина. Её слишком много. Её даже больше, чем пыли. Вместе они превратили улицу в кадр из древнего немого чёрно-белого фильма. Когда рвётся киноплёнка, в тёмный зал врывается тишь, а на залатанном экране дрожит мутная картинка. С застывшими домами-картонками, с пятнами деревьев и с кривым солнцем на бездушном сером небе. А есть ли у тебя уши? Может, пыльная лапа бесшумно подкралась сзади и проткнула их ржавой иглой, а ты не заметил? Может, ты тоже скоро исчезнешь, вслед за мамой и папой, а пропавший слух — это, на самом деле, приближение вечного ничто? Ты хватаешься за уши, щупаешь их, тискаешь, но, кроме шуршания собственных пальцев, не слышишь ничего. Тянешь до боли, до брызнувших слёз, но звуки не возвращаются. Даже ржавые качели-предатели не скрипят, замирают и злорадно скалятся вслед. Сейчас ты был бы счастлив и шебуршанию старой крысы. Просто расцеловал бы её в бельма. А муха? Зачем выпустил? Хоть кто-то из живых… И тогда, надеясь заполнить пустоту собой, ты начинаешь петь. Орёшь во всю глотку, надсадно, до сиплой рези кричишь подряд все песни, все строки, отрывки и огрызки, какие только можешь вспомнить: — Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам… — От улыбки хмурый день светлей… — Пора-пора-порадуемся на своем веку… — Пусть всегда светит солнце… пусть всегда будет мама!.. Мёртвые дома безучастно таращатся чёрными окнами. Улица пожирает твои песни, как половая тряпка пролитую воду. Над головой замерла рыхлая бесформенная туча, белёсым пятном прилипло к небу солнце. Словно бельмо на гигантском крысином глазе. И ты вдруг понимаешь, что это уже вовсе не ты, а всего-то черствая хлебная крошка на огромном пустом блюде-городе. Тощий прозрачный червяк, случайно заползший не туда. А сверху невидимый древний ворон разглядывает тебя с неспешностью и плотоядным презрением, косится то одним равнодушным зрачком, то другим, прицеливается, чтобы поточнее долбануть гигантским чёрным клювом. Всё, что ты видишь, знаешь и помнишь — дома, улицы, ржавые качели и даже мама с папой — для злобной птицы лишь выцветшие бессмысленные узоры на тарелке. В горле поселились кусачие осы. Свили гнездо, ползают, жалят нещадно. Ты не можешь выдавить и писка. Заходишься кашлем, и от резких движений взметывается бурая пыль. Или это любимая специя древнего ворона? Как тот красный жгучий перец, который так нравился воспоминанию по имени «папа»… Пыль липнет, лезет в рот и в нос, мелкими песчинками царапает глаза. Слёзы. Сопли. Кашель. Ты закрываешь лицо руками и, расшибаясь обо все углы и выступы, бредёшь назад. Через умерший дворик, прямо по мутно-свинцовой луже, загребая сандалиями ледяную воду. Через гулкий чёрный подъезд поднимаешься в пустую квартиру. Захлопываешь спиной входную дверь и сползаешь на пол. Тебе шесть лет. И никогда не будет семь. Потому что мама ушла. И папа, и бабушка, и все люди в городе, и даже Люська с одноглазой крысой. Тебя забыли. Бросили. Наверное, ты больше не нужен. Ты надоевшая сломанная игрушка. Не поднимаясь на ноги, заползаешь в старый стенной шкаф. Долго ворочаешься, пытаясь забраться в ворох полотенец, белья, дублёнок и курток так глубоко, чтобы никогда-никогда, даже если очень захочется, не отыскать дорогу обратно. Замираешь, зажмурившись и свернувшись калачиком, потом тихонечко, со всхлипами, принимаешься шептать: — Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать… Очень может быть, что у тебя никогда и не было семьи. Мама и папа, бабушка и рыжая Люська — все это лишь обрывки муторных снов, нафталиновые галлюцинации. А, на самом деле, ты старая кривая облезлая крыса, которая всю жизнь провела в этом шкафу, и только по ночам, высунув в щёлку бельмастый глаз и кончик носа, подглядывала за пугающим нечто за границами фанерного мира. Во что проще верить: в сумасшествие старой крысы или в то, что близкие предали и бросили тебя? Ты прерываешься, чтобы вдохнуть ртом, и твердишь снова и снова: — Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать… Когда ты повторяешь считалку тысячу тысячный раз, шкафные двери распахиваются, и сильные отцовские руки выдёргивают тебя из нафталиново-заплесневелого убежища. — Ага, нашёл! Ну ты молодчина, как здоровски спрятался! Я всю квартиру облазил, прежде чем отыскал своего сынишку! От папы несёт водкой, пивом и мамиными котлетами с чесноком, он хохочет и добродушным великаном подкидывает тебя к потолку. Ты давишься слезами и криками, хочешь схватить его за шею, прижаться, но отец не видит. Он треплет тебя по макушке и, поставив на ноги, со смехом шлёпает под зад: — А ну, давай ещё разок! Уж теперь-то я быстро найду! Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать… Ты уверен, что любишь играть в прятки?Андрей ТаранРодился 09.09.1974 г. в г. Солигорск (Минская обл., БССР) В середине восьмидесятых семья переехала в г.Лангепас (ХМАО), где и окончил ср.школу. В 1991 г. поступил на юридический факультет МГУ, закончил в 1996 г. С тех пор проживаю в Москве. Последние 10 лет работаю адвокатом. Это первая публикация автора.