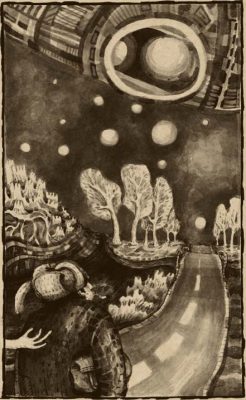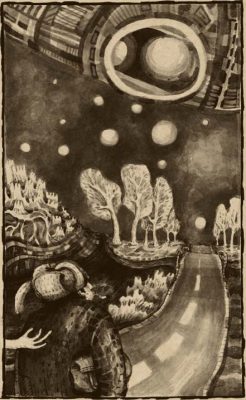
Международный литературный клуб
«Astra Nova»
Print-on-Demand
Астра Нова: альманах фантастики. № 1(006). — СПб.: Издательство Северо-Запад, 2016. — 345 с.
ISBN 9785938355927
Разнообразные секретные (или не очень) службы и разнообразные секретные (или не так чтобы) игры разнообразных секретных (или вовсе даже нет) агентов — как они есть. Или как они могли бы быть. Или не могли бы.
УДК 82-3
ББК 8 (2Рос-Рус) 6-44
© Светлана Тулина , составление, 2015
©Авторы публикуемых произведений
© Издательство «Литературный мир», 2015
© Издательство «Северо-Запад», 2015
Часть 1
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Или не совсем здесь…

Евгений Лукин
ЧИЧЕРОНЕ
Не так-то просто занять вакансию дворового дурачка
Я же не виноват в том, что ваше существование бессмысленно! Я виноват лишь в бессмысленности своего существования.
Великий Нгуен
В наши дни городской двор крайне редко представляет собой замкнутое пространство — он принадлежит сразу нескольким домам и неуловим в своих очертаниях. Обычно это сквозной лабиринт сообщающихся промежутков, слишком тесных, чтобы стать жертвами точечных застроек, зато вполне способных вместить клумбы, деревья, игровые площадки, гидранты, мусорные контейнеры, безгаражный автотранспорт.
Наверняка существуют какие-то карты, какие-то планы с точным обозначением границ, однако бумаги бумагами, а жизнь жизнью. В моём понимании, двор — это территория обитания одного отдельно взятого городского дурачка.
Не знаю, в чём тут причина, но два дурачка в одном дворе ни за что не уживутся. Мне, во всяком случае, такого наблюдать не доводилось.
Явление загадочное. Почему бы в любой из многоэтажек не завестись сразу двум несчастным (по другим сведениям, счастливым) существам, искажённо воспринимающим нашу, с позволения сказать, действительность? Тем более что, согласно статистике, число их увеличивается с каждым днём.
Возможно, вторая штатная единица просто не предусмотрена, иными словами, экологическая ниша рассчитана строго на одного. Возможно. И покуда жив тот, кто её заполнил, остальные кандидаты на должность обречены прикидываться более или менее нормальными людьми. Так сказать, теряться на его фоне.
Момент возникновения вакансии уловить практически невозможно. Во-первых, дурачки в большинстве своём долгожители (подчас кажется, что они вообще не имеют возраста), во-вторых, если исчезают, то незаметно. Проходит несколько месяцев прежде чем сообразишь, что дёрганый улыбчивый Коля куда-то делся, а вместо него объявился одутловатый вечно обиженный Валёк из третьего подъезда. Другое дело, что не всяк, считающийся психически здоровым, станет тратить жизнь на подобные наблюдения.
Отношение к дурачкам как правило благожелательное: приятно видеть того, кто заведомо глупее тебя. Если и поколотят порой бедолагу, то либо по незнанию его статуса, либо в связи с собственными не слишком высокими умственными способностями. Соблазнительно предположить, что поколотивший сам со временем займёт нишу поколоченного, но это уже так, тоска по справедливости.
***
В каком-то смысле мне повезло. Есть же люди, дважды видевшие комету! Так и я. Лет семь назад незримый колпак с погремушками, оставшийся от канувшего в неизвестность Коли, увенчал, как уже было сказано, бритую приплюснутую башку губастого Валька. Жили мы тогда ещё на той квартире. Потом у меня пошли косяком собственные неприятности — развод, раздел, размен и в итоге переезд на окраину, где мне вновь выпала возможность наблюдать похожую историю.
Местного дурачка звали Аркашей. Внешне чем-то он напоминал приснопамятного Колю, но только внешне. Совершенно иная личность. Ловелас. Прожжёный ловелас. Не пропускал ни одной юбки, причём осмотрительно выбирал женщин среднего возраста. Тинейджериц опасался и, наверное, правильно делал — слишком уж велик риск нарваться на отмороженного бойфренда. А может, и впрямь нарвался пару раз — с тех пор и зарёкся.
— Верочка! Верочка! — журчал он, проворно ковыляя за грандиозной эйч-блондинкой лет этак сорока. — Ты когда за меня замуж выйдешь?
— Иди в попу, Аркаша, — лениво бросала та через обширное плечо. — У меня вон муж есть.
— Муж — старый. А я — молодой.
Между прочим, так оно и было. Молодой. Довольно ухоженный. Надо полагать, кто-то из его родителей ещё оставался в живых.
— Я скоро в Америку поеду, — не отставая, хвастался Аркаша. — Мне яхту надо купить. А потом опять приеду. У меня прокурор знакомый. Он нам всё устроит…
И только-только начал я привыкать к его подслеповатеньким глазкам и умильной улыбочке, как он вдруг взял и пропал. Не думаю, что скончался, — скорее всего, некому стало о нём заботиться и сплавили Аркашу куда-нибудь под врачебный надзор.
Естественно, меня разобрало нехорошее любопытство: кто его заменит теперь? У кого из обитателей окрестных домов соскочит рычажок в мозгу? Ибо, повторяю, двор — как собор. Без юродивого он просто немыслим.
Гожусь ли я сам на столь ответственную роль? Вряд ли. Хотя, возможно, со стороны могло показаться, что у меня все к тому данные: сидит человек день-деньской на скамеечке у подъезда, смотрит стеклянным взглядом на проходящих, от разговоров уклоняется, на что живёт — неизвестно, а главное — всё время о чём-то думает. Если присесть рядом, встаёт и уходит.
Тем не менее себя я из списка исключил. Отобрал трёх кандидатов — и промахнулся со всеми тремя.
***
Он поравнялся с моей скамейкой и, не удостоив взглядом, сосредоточился на нашей девятиэтажке, словно бы прицениваясь. Словно бы собирался купить её целиком, однако не был ещё уверен в целесообразности такого приобретения. Выглядело это довольно забавно, поскольку наряд потенциального покупателя скорее свидетельствовал о честной бедности, нежели о сверхприбылях: ношеный серенький костюм, ворот рубашки расстёгнут до третьей пуговицы — по причине отсутствия второй. Плюс стоптанные пыльные туфли некогда чёрной масти. Я уже встречал этого субъекта во дворе и не однажды, знал, что проживает он в соседнем подъезде, пару раз мы с ним даже раскланялись.
— Дом, — неожиданно произнёс он. — Жилой дом.
Замолчал, прислушался к собственным словам. Потом заговорил снова:
— Жилой, потому что в нём живут. — Подумал и уточнил: — Люди.
«Опаньки!» — только и смог подумать я.
Давнее моё предположение подтверждалось на глазах: пробки и впрямь перегорают по очереди. Дурачок умер — да здравствует дурачок!
Судя по всему, внезапный преемник Аркаши был одинок. То ли вдовец, то ли старый холостяк. Скорее первое, чем второе. Маниакальной аккуратности, свойственной убеждённым противникам брака, в нём как-то не чувствовалось. Да уж, кого-кого, а его я точно в расчёт не принимал. Почему-то мне всегда казалось, что резонёры с ума не сходят. Собственно, что есть резонёр? Ходячий набор простеньких правил бытия, которым почему-то никто вокруг не желает следовать. Ну и при чём тут, спрашивается, ум? С чего сходить-то?
Однажды я краем уха подслушал его беседу с соседкой. Узнал, что дети должны уважать старших, а если не уважают, виноваты родители — воспитывать надо.
Всё, что до сей поры произносил этот человек, не являлось продуктом мышления, но добросовестно затверживалось наизусть в течение всей жизни.
И вот поди ж ты!
— Минутку! — взмолился он. — Дайте посчитать. В каждой примерно по четыре человека. Четыре на четыре и на девять… — Окинул оком подъезды. — И ещё на пять… — Пошевелил губами, умножая в уме. — Где-то около тысячи.
С болезненным интересом я следил за развитием его мысли.
— Все вместе? — с тревогой переспросил он себя. — Нет. Жилплощадь изолированная. Квартира. Это м-м… такая ёмкость высотой чуть больше человеческого роста… запираемая изнутри…
Резко выдохнул, словно перед чаркой водки, хотел, видно, продолжить, но не успел, застигнутый врасплох очередным собственным вопросом:
— Зачем собираться всем вместе, чтобы жить порознь?
«А действительно, — подумал я. — Зачем?»
— Ну… так принято, — выдавил он наконец.
Я не разбираюсь в психиатрии, однако в данном случае тихое помешательство было, что называется, налицо. Либо у горемыки обвальный склероз, и он отчаянно перечисляет вслух самые простые вещи, пытаясь удержать их в памяти, либо шизофрения, она же раздвоение личности: сам спрашивает — сам отвечает.
Впрочем, возможно, одно заболевание другому не помеха.
— Не в наказание, — продолжал он с тоской. — Просто живут.
Запнулся, утёр пот со лба. Отщепившаяся часть души откровенно издевалась над бывшим своим владельцем.
— Зачем так много людей? — прямо спросила она.
— Родину защищать, — не удержавшись, тихонько промолвил я.
Как выяснилось, очень вовремя.
— Родину защищать, — повторил он с облегчением двоечника, уловившего подсказку. Измученное лицо его просветлело, но тут же омрачилось вновь. — Родина. Это где родился. Я? В Советском Союзе. Только его уже нет.
Меня он по-прежнему в упор не видел. Глядя с сочувствием на жалобно сморщенное чело новоявленного нашего дурачка, я достал сигареты, закурил, кашлянул. Бесполезно. Жердиной огреть по хребту — не заметит.
— Теперь Россия, — с достоинством выговорил он. — Российская Федерация. Потом… Как это потом? Потом — не знаю…
Осёкся, заморгал.
— От врагов. Сейчас — от грузин. Э-э… Грузия. Бывшая республика… То есть как бы это… Бывшая часть Советского Союза… Нынешнюю Родину — от бывшей?
Умственное напряжение вот-вот грозило достичь красной черты. Пора было принимать меры.
— Послушайте, может, вам помочь? — спросил я.
— Вы мешаете, — хрипло ответил он.
Вот так. Что называется, осадил.
— Хорошо-хорошо, — пробормотал я. — Не буду.
Он повернулся ко мне, однако глаза его оставались не то чтобы незрячи — нет, видеть-то они меня видели, но так на собеседника не смотрят. Так смотрят на неодушевлённый предмет.
— Курит, — огласил он. — Вдыхает дым с никотином. Потом выдыхает. Зачем?
— Слышь, урод! — не выдержав, окрысился я. — А не пошёл бы ты…
Не стал говорить, куда, и нервно отправил окурок в горлышко бутылки из-под пива, используемой мною взамен урны.
— Да, — скорбно отозвался он. — Смысл курения обсуждать отказывается. Настаивает, чтобы ушёл… Нет, не нападает… Спасибо… Спасибо… До свидания!
Последние слова были сопровождены заискивающей улыбкой. Но я к тому времени уже и сам взял себя в руки. Принимать дурачка всерьёз означает, напоминаю, претендовать на его место.
— Ну вот, — обессиленно вымолвил он, присаживаясь рядом со мной. — Отработал. Сигаретки не найдётся?
Я, честно сказать, слегка ошалел — настолько эта фраза не вязалась со всем предыдущим. Машинально переставил пивную бутылку так, чтобы она стала аккурат между нами, и достал пачку.
Пару минут сидели молча. Он, кажется, переводил дух, а я всё пытался уразуметь, что, чёрт возьми, происходит. Прикинувшись, будто разглядываю кондиционер на втором этаже, как бы невзначай покосился на соседа. С виду совершенно нормальный человек. Хотя бывает, что дурь и приступами накатывает. Потом отпускает.
— С кем вы сейчас говорили? — спросил я.
Он испугался. Опасливо взглянул на меня исподлобья, затем торопливо сунул едва до половины докуренную сигарету в бутылочное горлышко (сигарета сказала: «Тш-ш…») и встал.
— Извините, — сипло бросил он. — Мне пора.
И устремился к своему подъезду.
***
Слух о том, что Рудольф Ефимыч (так, оказывается, звали моего собеседника) взял вдруг и тронулся рассудком, назавтра был уже известен всему двору. Я, как несложно догадаться, ни с кем из соседей впечатлениями не делился. Остаётся предположить, что свидетелей его странного поведения было и так достаточно.
Скамейку с утра оккупировали взволнованные бабушки, лишив меня привычного насеста, и пришлось мне убраться восвояси. В тесные мои свояси, что на четвёртом этаже, с их рваными обоями и ржавыми разводами на потолке в прихожей. Из услышанного мною возле подъезда следовало, что Рудольф Ефимыч и вправду вдов, одинок, неустроен, а стало быть, в нынешнем своём качестве долго не протянет. Городской дурачок — растение оранжерейное и нуждается в постоянной заботе. «В холе и лелее», как выразилась сегодня одна из бабушек. А иначе путь один — в бомжи.
Приключись подобное в девяностые годы, я бы даже не удивился. Людям вроде Ефимыча легче всего прослыть тронутыми именно во времена перемен, в эпоху общенародного помешательства, ибо крыша у таких с детства прихвачена болтами. Намертво. Ну вот представьте: у всех уехали, а твоя — на месте. И какой же ты тогда нормальный?
Да, но сейчас-то не девяностые. Жизнь устаканилась, народ опомнился, прописные истины вновь обрели право на существование. Опять же, чем меньше вникаешь в окружающую действительность, тем меньше у тебя шансов свихнуться. Живи — не хочу. Глупость, если на то пошло, чуть ли не самая надёжная наша защита от безумия.
А тут начал человек задавать себе простые вопросы, да ещё и честно на них отвечать. Самоубийца.
Интересно, что он имел в виду, сказав: «Отработал»? В каком смысле «отработал»? Дурачком отработал? Может, и впрямь предусмотрена в городском хозяйстве такая штатная единица? Сколько, интересно, платят?
***
На лестничной клетке раздались голоса. Не представляю, как зимовали прежние хозяева моей однокомнатки, но железная входная дверь не имела деревянного покрытия, поэтому в запертом положении она пропускала звуки с тем же успехом, что и в распахнутом. Вот и сейчас слышимость была изумительная. Один голос несомненно принадлежал Витале с пятого этажа, два других я опознать не смог. Гости, надо полагать. Вышли перекурить к мусоропроводу. Видимо, в квартире уже дышать нечем.
Поддать они к тому времени успели крепко, и речь их изяществом не отличалась. То, что в данный момент взахлёб излагал Виталя, после беспощадной цензурной правки прозвучало бы примерно так:
— Я, доступная женщина, вчера, на мужской детородный орган, иду, подвергнутый оральному сексу, а навстречу, соверша-ать половой акт…
Ну и всё прочее в том же духе.
Беседовали они минут пять. Потом вмешался некто четвёртый, и мне вновь почудился голос Ефимыча. Впрочем, до конца я уверен в этом не был. Глухие отрывистые фразы новоприбывшего в смысле внятности оставляли желать лучшего. Даже учитывая замечательные качества моей двери и оторопелое молчание троицы.
Матерно грянул Виталя. Кажется, четвёртому лишнему, кем бы он ни был, грозило увечье. Я двинулся к дверному глазку, но, пока шёл, громогласного буяна словно выключили. Тишина поразила подъезд.
Поколебавшись, отодвинул громко по-тюремному лязгнувший засов и выглянул наружу. Пусто. Гулко. Такое впечатление, что на промежуточной площадке затаили дыхание. Затем кто-то поспешно взбежал на пятый этаж и вызвал лифт. Дождался. Уехал.
А пауза всё длилась. Определённо что-то необычное происходило у нас на лестнице. Не люблю вмешиваться в чужие пьяные дрязги, но тут, кажется, случай был особый — и я, сильно сомневаясь в правильности своих действий, двинулся вверх по ступенькам. Возле мусоропровода меня ждали три восковые фигуры. Две из них, принадлежащие незнакомцам, сидели на подоконнике, тупо уставясь в некую точку пространства. К той же точке стремился и сизорылый пучеглазый Виталя — с явным намерением удушить её, падлу, в зародыше. Стремился, но был перехвачен некой неведомой силой, остановившей его на полпути.
С моим появлением восковых фигур стало четверо.
Была такая ныне забытая детская игра. Называлась «море волнуется». Море волнуется — раз… Море волнуется — два… Море волнуется — три…
Отомри!
Я отмер. Приблизился к Витале, тронул не без опаски его угрожающе растопыренные пальцы. Тёплые. Во всяком случае, сравнительно с моими.
— Э! — испуганно окликнул я. — Мужики! Что это с вами?
Мне послышался еле уловимый звук, напоминающий хруст тончайшей ледяной корочки. Скорее всего, померещилось. Трое шевельнулись, заморгали. Завидев меня, одурели вконец.
— А где… — Виталя облизнул губищи, огляделся.
— Кто? — спросил я.
— Ну… этот…
Очумело переглянулись. Давно я не чувствовал себя так неловко.
Из дурацкого положения нас вывел Виталя.
— Слышь, — всё ещё продолжая моргать, нашёлся он. — Сосед. Это… Выпить хочешь?
***
Я согласился и, пожалуй, напрасно. Моё подозрение, что в разговор трёх друзей на промежуточной площадке четвёртым вклинился именно Ефимыч, подтвердилось, но большего мне из них выпытать так и не удалось. При одном только упоминании о случившемся собутыльники мрачнели. Такое чувство, будто они ни слова не запомнили. Вынесли одни впечатления.
— Вульвой ударенный…
— Нет, ну а что он говорил хотя бы?
— А мужская принадлежность его знает! — нервно отвечал Виталя. — Звенящий тестикулами он и есть звенящий тестикулами!
Собственно, сегодняшний монолог Ефимыча я бы мог восстановить и сам — по образцу вчерашнего. Гораздо больше меня интересовало странное состояние, в котором я застал трёх орлов у мусоропровода, однако расспрашивать их об этом казалось мне крайне бестактным, а то и просто бессмысленным занятием. Будь они даже трезвы, тут же постарались бы или всё забыть, или придать событию какое-никакое правдоподобие.
Ну, стояли, ну, разговаривали. Подошёл. Обидел. Растерялись. А когда опомнились, ушёл уже. На лифте уехал.
***
Вернувшись к себе, я первым делом жахнул крепкого кофе и попробовал поразмыслить.
Кажется, ошибся. Что-то не слишком похож наш Рудольф Ефимыч на обычного городского дурачка. Дурачок непременно должен быть безобиден и беззащитен. Вот первое, что от него требуется. А умственная ущербность — так, придаток, даже не слишком обязательный. Дурачок, да будет вам известно, существует вовсе не для того, чтобы нести околесицу. Его обязанность — пробуждать добрые чувства в окружающих и повышать их самооценку. Но, в отличие от нищих, он это делает бескорыстно.
А Ефимыч, получается, опасен. Сам видел.
Гипноз? А что ещё может привести сразу трёх человек в столь странное оцепенение? Пожалуй, только гипноз. Чёрная магия и разные там инопланетные парализаторы отпадают, поскольку я не домохозяйка и не восьмиклассница, чтобы верить всему без разбора.
Тогда вчерашняя наша встреча обретает совсем иной смысл. Возможно, то, что я принял за лёгкое помешательство, было всего-навсего неким развивающим упражнением. Сам себе вопрос — сам себе ответ. Кстати, становится понятной фраза: «Вы мешаете». Как и облегчённый выдох: «Отработал».
Правда, имеются два возражения. И весьма серьёзных.
Первое: почему, когда я вчера на него рявкнул, он не обезвредил меня, как эту троицу? Счёл угрозу ничтожной? Или обезвредил на пару минут, а я ничего не заметил? С Виталей понятно: очнулся и видит перед собой вместо одного собеседника совсем другого. Попробуй тут не заметь!
И второе: извините, ни за что не поверю, чтобы человек такого склада на старости лет подался в гипнотизёры. Хотя, если по-честному, много ли я о нём знаю? Пару раз поздоровались, один раз нечаянно подслушал его болтовню с соседкой, остальное — из уст бабушек на скамеечке.
Удивительное я всё же существо. Деньги кончаются, семья распалась, работы не предвидится, а я вместо того, чтобы сообразить, как быть дальше, размышляю о каком-то загадочном придурке.
***
К дальнейшим событиям я, как выяснилось, оказался подготовлен куда лучше, чем остальные обитатели двора. Те жильцы, кому эта история была не безразлична, мигом поверили в обречённость Ефимыча и пророчили скорое появление стервятников: ладно родня нагрянет, а ну как чёрные риэлтеры?
Хотя откуда у него родня? Был племянник-бандит, уговорил дядю уволиться с порохового завода, здоровье поберечь. Чего, дескать, горб ломать? А вскоре племянника застрелили во время разборки. Теперь вот ни пенсии хорошей, ни кормильца.
Неделю спустя Рудольф Ефимыч вышел из подъезда в дорогой замшевой куртке — и по двору пробежал зловещий шепоток. Начинается. Вот уже и куртку ему купили. Теперь дело за малым. Уговорят подписать завещание на квартиру, потом тюк по башке — и в овражек!
Однако я-то знал, что не всё так просто. Даже если забыть чертовщину, недавно приключившуюся на промежуточной площадке между четвёртым и пятым этажами, не тянул Ефимыч на роль блаженного. Взять, к примеру, ту же куртку. Ну не было у него в лице сияния, свойственного дурачкам, когда они выходят из дому в дорогой обновке. Озабоченность — была, задумчивость — была. Даже отрешённость. А радости — никакой.
Что же касается «тюк по башке — и в овражек», это, согласитесь, пережиток прошлого. Отголосок тех же девяностых. Сейчас ненужную личность убирают куда более цивилизованными способами, что и подтвердилось пару дней спустя, когда к соседнему парадному подкатила «скорая». Лекари душ человеческих довольно долго трезвонили в квартиру Рудольфа Ефимыча, пока некая сердобольная сволочь не подсказала, что хозяин гуляет во дворе. Вернулись во двор. Действительно, душевнобольной в роскошной замшевой куртке стоял перед медицинским автотранспортом и натужно пытался растолковать самому себе, что это такое и зачем.
А вокруг уже собиралось дворовое вороньё, прилично пригорюнившееся, любознательное, зоркое. Внезапно я понял, чем сейчас кончится дело, и тоже снялся со скамейки. Подошёл поближе.
— Здравствуйте, — сказала коренастая врачиха. — Вы Уклюжий Рудольф Ефимович?
Будущий узник здравоохранения смотрел на неё, словно бы не понимая вопроса.
— Врач, — отрывисто произнёс он наконец. — Лечит от болезней. Болезнь — это когда плохо со здоровьем. Здоровье? Ну, это… когда ничем не болеешь…
Докторица скорбно поджала губы, затем кивнула санитарам.
На мой взгляд, для одних людей время движется слитным потоком, для других дробится на бесчисленные мгновения. Этих вторых мы обычно называем фотогеничными. Два амбала в белых халатах несомненно относились к первому разряду, ибо нелепее, я бы даже сказал, смазаннее тех поз, в которых они застыли, пытаясь взять больного под руки, трудно себе представить. Мало того, что оба замерли, раскорячившись подобно чечёточникам, так ещё и со скучающими физиономиями.
Нет, всё-таки Виталя со своими гостями выглядел куда выразительнее.
Поначалу никто ничего не понял. За исключением меня, ну и, понятно, Ефимыча. Он виновато ссутулился и, пробормотав: «Извините», — поспешил удалиться. Перед ним расступились.
Врачиха (она уже открыла переднюю дверцу) покосилась на скульптурную группу в белых халатах — и садиться в машину раздумала.
— Что там у вас? — раздражённо осведомилась она.
Осеклась. Взгляд её метнулся по двору в поисках исчезнувшего пациента, потом вновь сосредоточился на обездвиженных сотрудниках. Дальнейшие действия коренастой тётеньки свидетельствовали либо о высоком профессионализме, либо о хорошей интуиции. Очутившись перед окаменевшими, она не стала их трясти и щипать. Просто отвесила каждому по оплеухе. В лечебных целях.
Амбалы ожили, отшатнулись.
— В машину, — процедила врачиха.
С тем и отбыли.
***
Забавно, однако ничего сверхъестественного наши ротозеи в случившемся так и не углядели. Единственное, что возмутило всех до глубины души, это неслыханно грубое обращение врача с персоналом. Ну прошляпили, ну убежал. Но по морде-то зачем? Психиатр называется!
Странный народ. Что ни покажи по телевизору, всему поверят, а тут на глазах происходит откровенная дьявольщина — и никто её не видит.
Говорят, была потом ещё одна попытка похищения нашего Ефимыча (на сей раз чисто уголовная), но мне о ней мало что известно. Рассказывали также, будто он взял вдруг и расплатился с долгами. Разом. В это, кстати, верилось. Куртейка-то не из сэконд-хэнда.
Исполняющий обязанности дурачка сочувствия ни в ком уже не вызывал. Какое может быть сочувствие к буржуям?
Однажды он остановился возле нашего подъезда и посмотрел на меня пустыми глазами.
— Скамейка, — подсказал я. — Предназначена для сидения. Состоит из двух столбиков и доски. Для того, чтобы сесть, надлежит согнуть ноги в коленях и опустить задницу на доску. Задница — это то, что сзади.
Рудольф Ефимыч горестно скривил рот.
— Смеётесь, — упрекнул он. — Всё бы вам смеяться.
Присел рядом, прерывисто вздохнул.
— Понимаете, я — гид, — признался он, покряхтев.
— Кто? — не понял я.
— Гид, — повторил он. — Хожу и всё рассказываю.
— Ну, это я заметил. А кому, простите?
— Откуда я знаю! — с тоской сказал Рудольф Ефимыч.
Что-то в этом роде я и предполагал. Есть такое заболевание, не помню только, как называется. Слышит человек голоса, разговаривает с ними, ругается, спорит. Правда в подобных случаях не прорезается талант гипнотизёра, да и благосостояние, насколько мне известно, не увеличивается.
В остальном же — тютелька в тютельку.
— А как они на вас вышли?
— Вышли — и всё.
— Но вы их видели хотя бы?
— Нет. Только слышу.
— Рисковый вы человек, Рудольф Ефимыч, — заметил я. — Имейте в виду, в потустороннем мире жуликов тоже полным-полно. А вдруг они с дурными намерениями?
Встревожился, прикинул.
— Да нет! — убеждённо сказал он. — Какие жулики? Что обещали, всё сделали. Счёт открыл — деньги перевели. Безопасность вот обеспечивают…
— Это в смысле… с Виталей… с санитарами?..
— Ну да. Потом какие-то двое куртку с меня снять хотели. Вечером. Во дворе. Ну и их тоже…
Следует признать, такое истолкование событий, в отличие от моих выкладок, звучало непротиворечиво, а главное, всё объясняло. Впрочем, вполне естественно. Единственный способ всё объяснить — это сойти с ума.
— Стало быть, вы теперь чичероне?
Мой собеседник смертельно обиделся. У него даже губы затряслись.
— Как вы можете так говорить? — напустился он на меня. — Я двадцать лет на пороховом заводе отработал!
Я уставился на него в изумлении. Потом дошло.
— Рудольф Ефимыч! Чичероне — это проводник по-итальянски. Экскурсовод.
— Но мы же с вами не в Италии! Мы — русские люди!
Видно, каждое незнакомое слово было для него личным оскорблением.
— А те, кто вас нанял? — не удержавшись, подначил я. — Какой они национальности?
Ефимыч обмер. А действительно.
— Может, инопланетяне… — жалобно предположил он.
Ну да, конечно. Инопланетяне. Лишь бы не грузины и не американцы.
— Возможно, возможно, — не стал я спорить. — Вы просто хотите поболтать, или у вас ко мне какое-то дело?
— Да-да… — озабоченно проговорил он и на всякий случай огляделся. — Дело… — Затем в глазах его обозначился испуг. — Извините. Потом…
Ефимыч встал и судорожным движением отёр ладони о свою знаменитую замшевую куртку.
— Скамейка, — доложил он. — Предназначена для сидения…
***
И почему я не псих с паранормальными способностями? Ходил бы себе по двору, видал бы всех в гробу, называл бы вслух кошку кошкой. Кто такая? Сейчас растолкую. У кошки четыре ноги, позади у неё — длинный хвост. А мне бы за это денежка на счёт капала… Впрочем, относительно денежки на счёт Ефимыч, скорее всего, выдумал. Как и относительно погашенных долгов. А иначе ерунда выходит: в финансах его незримые работодатели разбираются, а что такое скамейка, не знают.
Тогда откуда куртка?
В железную дверь гулко постучали. Звонка у меня не было. Была только кнопка, но сама по себе.
Открыл, не спрашивая, кто. В крайнем случае, грабители.
На пороге стоял Рудольф Ефимыч. Замшевое плечо его оттягивала сумка — тоже, видать, не из дешёвых.
— Отработали? — понимающе спросил я.
— Да, — сказал он. — Отработал.
— Тогда прошу…
Мы прошли в комнату, где, к моему удивлению, незваный гость с торжественной последовательностью принялся выгружать на свободный краешек стола коньяк, оливки и прочую сёмгу. В честь чего это он? Ах да, у него ж ко мне дело!
В четыре руки расчистили стол, уселись. Ефимыч огляделся, вздохнул.
— Бедно живёте, — сокрушённо молвил он.
Я промолчал. Гость тоже мялся и покряхтывал, не зная, с чего начать. Потом спохватился и разлил коньяк в тусклые разнокалиберные стопки.
Чинно приняли по первой. Закусили оливками с блюдца.
— Я — простой работяга, — внезапно известил он. — Я — попросту.
— Вы это мне? — уточнил я. — Или им?
— Вам. Я — прямо, знаете, без этих там ваших разных… Как в детстве учили, так и живу.
Трудная, видать, была смена. Речь у него разваливалась окончательно.
— Рад за вас.
— Погодите, — сказал он. — Не перебивайте. А то собьюсь.
И разлил по второй.
Выпили.
— У кого ничего святого, — сосредоточенно продолжил он, — таких не выношу. Родителей надо уважать. Родину любить. Работать надо. Прямо скажу: языком болтать не умею — только руками. Вот так!
Рассердился и умолк. Кажется, меня за что-то отчитали. Впрочем, Ефимыч уже смягчился. Назидательно поднял указательный палец.
— Труд сделал человека, — изрёк он.
— Точно труд? — усомнился я. — Не Бог?
Моего гостя прошибла оторопь.
— Нет, ну… — Он замялся. — Сначала Бог, потом труд… Бог сделал человека и сказал: «Трудись».
Я смотрел на Ефимыча почти что с завистью. И ведь уверен в каждом своём слове! Как всё же мало нужно для счастья… Трудись! Это, между прочим, изгоняя Адама из рая, Бог ему такое сказал. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят…» А в момент изготовления Он другое велел: «Плодитесь и размножайтесь». Занимайтесь, короче, сексом.
— Человек без людей не может, — сказал Ефимыч. — Без людей человеку нельзя.
Затосковал. Разлил по третьей. Я забеспокоился. Дозы, правда, махонькие, но всё равно — в таком темпе… К счастью, мой собутыльник не донёс коньяк до рта и со стуком отставил стопку. Я последовал его примеру.
— Ну вот как это? — уже с надрывом заговорил он. — Работал! Честно работал! Двадцать лет на пороховом заводе. Знал, что нужен людям! А они…
— Кто «они»? Люди?
Он досадливо мотнул головой.
— Да нет. Эти… которым я всё рассказываю.
— А-а… — Я наконец-то смекнул, в чём дело. — Спросили, как именно вы трудились на благо людей? А потом: что такое порох и зачем?
— Да, — глухо признался Ефимыч.
— Вот гады! — с искренним восхищением подивился я.
Всё-таки пришлось выпить по третьей.
— Рудольф Ефимыч! Но они ж, наверное, не нарочно…
— Будто мне от этого легче! — буркнул он.
— Да не берите вы в голову… — уже малость размякнув, добродушно убеждал я его. — Подумаешь, начальство обидело! Так ли нас ещё обижали, а, Ефимыч? Зато работёнку подкинули. Хорошо хоть платят-то?
— Платят хорошо… А во дворе со мной никто говорить не хочет.
— Завидуют, — решительно объявил я. — Чёрной завистью. Ишь! На старости лет человеку хлеба кус перепал, а им уже невмоготу! У, суки…
— А вы сейчас безработный? — ни с того ни с сего спросил он.
Настроение мигом упало. Не спрашивая разрешения, я собственноручно наполнил стопки.
— Безработный…
— А раньше где? — не отставал Ефимыч.
— Да где я только не работал!
— Ну я и вижу, — одобрительно заметил он. — Рабочий человек. Не из этих… не из интеллигентов.
Ну, спасибо тебе, Ефимыч!
— Кто такие?
Он уставился на меня с подозрением.
— Не знаешь, что ли?
Я истово перекрестился, дескать, впервые слышу. Наверное, это было жестоко с моей стороны — задавать простые вопросы, от которых у бедняги и так уже ум за разум заходил, но после трёх стопок коньяка за собой не уследишь.
— Интеллигенты?.. — Глаза его напряглись, а лоб пошёл натужными складками. — Ну, эти… Образование получили, а пользу приносить не хотят.
— Кому?
— Обществу, — сердито сказал он. — Россия из-за них гибнет. Умные больно.
— Кто, например?
— Артисты всякие, — нехотя ответил он.
— А-а… — Я покивал. — Шукшин, Мордюкова…
— Нет, — испуганно сказал он. — Ты чо? Шукшин, Мордюкова… Они полезные. Я про паразитов разных.
А может, зря я ему сочувствую. Вот экскурсантов его бестелесных, тех — да, тех стоит пожалеть. После таких объяснений сам, глядишь, рехнёшься. Хотя не исключено, что, задавая вопросы, голоса просто развлекаются. Поражённый этой внезапной мыслью, я с невольным уважением покосился на моего собеседника. Если так, то передо мной сидел дурачок отнюдь не городского, но космического масштаба. Может быть, даже вселенского.
— И чем же мы, паразиты, вам не угодили?
Слово «мы» он, естественно, не расслышал. Фильтр, с детства установленный в голове Рудольфа Ефимыча, исправно задерживал на входе всё, что противоречило его пониманию ситуации.
— Паразиты, — повторил он, глядя на меня с недоумением и, должно быть, подозревая во мне придурка.
— Трудового народа?
— Да, — подтвердил он. — Паразиты трудового народа.
— Ну и где он, этот ваш трудовой народ? — спросил я с пьяным смешком. — Вот, допустим, я паразит…
— Почему паразит? — всполошился Ефимыч. — Безработный!
— Хорошо. Безработный паразит. — В голове у меня давно шумело, но это полбеды. Хуже, что во мне пробуждался трибун. — Работать, говоришь, надо? На пользу общества? Какого? Этого? Которое меня за порог вышибло?
Ефимыч сидел, отшатнувшись, и даже не моргал.
— Н-ни капли крови за капиталистическое отечество! И ни капли пота! Ни кап-ли! Ты понял, Ефимыч?
Ефимыч понял.
— Так я и говорю! — подхватил он, оживая. — Давно этих жуликов к ответу надо! В Библии как сказано? «А паразиты — никогда!»
Бывают бездарные дурачки. Бывают талантливые. Ефимыч был гениален. Вот так, запросто, походя, в пику Владимиру Ильичу Ленину, слить коммунизм с христианством в один флакон?
Луначарский скромно курит в сторонке.
— Нет, закончим всё-таки с трудовым народом, — упорствовал я. — Согласен, трудится! Доблестно! А на кого? На олигархов. Трудовой народ — пособник олигархов. Он с ними со-труд-ни-ча-ет. В отличие от нас, честных паразитов… А кто такой олигарх? Хищник. Вот скажи, что для тебя лучше, Ефимыч, хищник или паразит? С кем бы ты предпочёл столкнуться на узкой тропинке: с разъярённым клопом или с разъярённым тигром?
Последним своим нетрезвым сравнением я, надо полагать, добил собеседника вконец. Вряд ли он уловил извилистый ход моей мысли, но, судя по всему, это-то и показалось ему особенно обидным. Ефимыч встал с каменным лицом. Ни слова не говоря, закупорил коньяк и вернул его в сумку. Туда же отправилась не вскрытая ещё вакуумная упаковка сёмги.
— Не думал я, что вы… — Голос его дрогнул. — …такой…
Ничего более не прибавил и прошествовал к выходу.
— Иди-иди… — глумливо дослал я ему в оскорблённо выпрямленную спину. — Труженик! Ниспококл… Низко-пок-лон-ствуй дальше перед своими буржуинами! Чичероне! Вот погоди, весь мир насилья мы разрушим… Как там в Библии?..
Гулко лязгнула железная дверь.
***
Ай-яй-яй, как стыдно! Совсем пить разучился. С трёх рюмок погнать коммунистическую пропаганду! Или с четырёх? Да, кажется, с четырёх. Четвёртую я наливал собственноручно. А там, глядишь, и пятая набежала…
До девяносто первого года я, помнится, в таких случаях гнал исключительно антисоветчину. Что ж, иные времена — иная ересь.
Съел горсть оливок и хмуро задумался.
Общество… Вечно оно пытается извлечь из меня какую-то пользу. Ну какая от меня может быть польза? Один вред.
Нет, я, понятно, всячески сопротивляюсь подобным поползновениям. И этот поединок двух эгоизмов длится с переменным успехом вот уже без малого полвека.
Кстати, мне есть чем гордиться. Подумайте сами: на стороне противника военкоматы, милиция, наложка, а на моей — я один, и то не всегда. Конечно, при таком неравенстве сил обществу время от времени удаётся со мной сладить, но и в этом случае оно, видите ли, недовольно. Ему недостаточно меня изнасиловать, ему надо, чтобы я отдавался с любовью. С какой радости?
Оно утверждает, будто правота на его стороне. Я же утверждаю, что на моей. Как говорят в детском садике: «А чо оно первое?! Я его трогал?!»
А тут ещё эти самозабвенные придурки вроде Ефимыча. Хотя такие ли уж они самозабвенные? Иногда мне кажется, что любой человек по сути своей шпион, внедривший себя в человечество. Вы не поверите, но иной раз хочется посадить гада на привинченный к полу табурет, направить в глаза лампу и допросить с пристрастием: «На кого работаете?» — «На общество!» — «А подумать?» — «На общество!» — «А иголки под ногти?» — «На общество!!!»
На какое на общество? На себя ты, вражина, работаешь, на себя…
С этой глубокой мыслью я и заснул.
***
Разбудил меня всё тот же Рудольф Ефимыч. Каким образом он вновь проник в квартиру, загадки не составляло: без ключа дверь запиралась только изнутри. А я её, понятно, не запер. Судя по тому, что за окном помаленьку смеркалось, с момента нашего расставания прошло как минимум два часа. Ополовиненная бутылка коньяка вновь расположилась на столе, а сёмга была лишена упаковки и даже нарезана. Сам чичероне сидел на стуле, деликатно покашливая и похлопывая себя по коленям.
«Мирись, мирись, мирись и больше не дерись…»
— А? — сказал я спросонья.
— Я ведь чего шёл-то? — пряча глаза, напомнил он. — Дело у меня к вам.
Да, верно. До дела у нас так и не дошло. Я сел на раскладном своём ложе, протёр глаза.
— Ну, — буркнул я. — И в чём оно состоит?
— Только имейте в виду, — предупредил Ефимыч. — Я — простой работяга. Я — попросту.
«О Господи! — подумал я. — Снова здорово! Как его голоса терпят?»
— Вот вы безработный, — сказал он. — И жить вам не на что.
Я помял виски, поморщился. Ефимыч истолковал моё движение не совсем правильно и шустро наполнил стопки.
— А я, как в детстве учили… Языком болтать не умею…
— Только руками, — сипло подсказал я.
— Да, — сказал Ефимыч. — Только руками. Вот у вас — получается… Иной раз так слово вывернете, что… — Он пожевал губами. — …даже в голову не придёт! — Принял коньячку, замолчал, выжидательно на меня взглядывая. — Ну так как?
— Что «как»?
— Ну не могу я больше! — взмолился он. — Они ж меня о таком спрашивают, что с ума сойдёшь! Начнёшь отвечать — люди шарахаются. Как от чумного какого. А вы безработный…
— Стоп! — скомандовал я. — Вы что хотите? Пересадить эти ваши голоса из своей головы в мою?
— Да, — обречённо сказал Ефимыч. — Хочу.
— Так, — проговорил я и поднялся с койки. — Пойду самовар поставлю…
Выйдя в кухню, разжёг конфорку и выразительно на неё посмотрел. Дескать, ничего себе, а? Водрузил чайник на огонь и, сокрушённо покачав головой, вернулся в комнату, где изнывал в ожидании Ефимыч.
— Так, — повторил я, садясь напротив. — Значит, решили уволиться…
— Да! — выдохнул он. — Сил моих больше нет.
— А жить на что собираетесь? На пенсию?
— Ну жил же до сих пор! И потом… я уже вон сколько заработал…
— Сколько?
Он взглянул на меня с опаской.
— Да как… — уклончиво молвил он. — Вот на Центральный район меняюсь. С доплатой. И ещё кое-что останется…
Что ж, это мудро. С нынешней его репутацией в нашем дворе оставаться не стоит. Разумнее перебраться куда подальше.
— И защищать больше не будут…
— Защищать не будут, — подтвердил он.
— А мою кандидатуру вы уже с ними обсуждали?
— Да! — с жаром сказал Ефимыч. — Они согласны. Дело только за вами.
В кухне весьма своевременно заверещал чайник, что дало мне повод удалиться, выгадав краткую отсрочку.
Сказано: возлюби ближнего, как самого себя. Я не люблю себя. Жалеть иногда жалею, а любить не люблю. Не за что. Таким образом вышеупомянутая заповедь Христова соблюдается мною неукоснительно.
Однако неприязнь к ближним вовсе не подразумевает жестокости в отношении кого-либо из них. А любой мой ответ в данном случае прозвучал бы весьма жестоко. Наиболее милосердным представлялось твёрдое «нет».
Ну вот, допустим, отвечу я: «да». Голоса, естественно, никуда от этого не денутся — и поймёт Ефимыч с ужасом, что никакой он не чичероне, а самый обычный псих. Ещё не дай бог что-нибудь над собой учинит. Мучайся потом из-за него…
Впрочем, поймёт ли? Может ли вообще психопат чистосердечно признать себя психопатом? Наверняка извернётся, выкрутится, что-нибудь придумает и останется прав во всём. Да и голоса, конечно же, его изнутри поддержат: отбой, дескать, никого нам, кроме тебя, Ефимыч, не нужно. Нет такого второго во Вселенной.
Есть, кстати, и другой вариант. Я говорю: «Да», — и голоса умолкают. Где-то я даже читал о подобном способе лечения. Правда, не исключено, что вместе с ними Ефимыча покинут и его гипнотические способности, однако не думаю, чтобы он об этом когда-нибудь пожалел.
С большим чайником в левой руке и с заварочным в правой, я вернулся к столу.
— Ну? — затрепетав, спросил меня Ефимыч.
На моё счастье, я сначала избавился от кипятка и лишь потом сказал:
— Что ж с вами делать… Согласен.
«Тогда давайте обсудим условия», — отчётливо прозвучал в моей голове приятный мужской голос.
***
Как всё это было давно…
Я останавливаю свой «форд» напротив здания с колоннами, что, конечно же, чревато штрафом. Ладно, штраф так штраф. Кто бы протестовал!
— Дума, — с удовольствием оглашаю я, захлопывая за собой дверцу и простирая ладонь к колоннаде. — Это где думают.
— О чём? — неслышно спрашивают меня.
— Предполагается, что о народном благе.
— Кем предполагается?
— Теми, кто думает.
— Это соответствует действительности?
— Ну, не всё так просто, — со снисходительностью истинного чичероне изрекаю я. — Конечно, каждый думает исключительно о своей выгоде и о своей карьере. Но из множества этих мелких дум складывается одна общая дума о народном благе.
На несколько мгновений в голове моей воцаряется тишина. Кажется, я малость озадачил своих работодателей. До сих пор не возьму в толк, кто они и откуда взялись. Первое время пытался понять, потом махнул рукой. Достаточно того, что ребята вроде хорошие и в чужие дела не лезут. Да у них, судя по всему, и возможностей таких нет. Просто любопытствуют.
Даже мыслей читать не умеют. Меня это устраивает, хотя и создаёт определённые неудобства: на каждый их вопрос нужно отвечать вслух. Сначала стеснялся, потом обнаглел. Вроде как по сотику болтаешь. Тем более что на правом ухе у меня и впрямь красуется самая что ни на есть крутая гарнитура. На зависть продвинутым тинейджерам. Однажды подстерегли у парадного, попытались отобрать. За что и были обездвижены.
Сильно осложнились отношения с женщинами. Теперь каждую приходится предупреждать, что я иногда во время интимной близости начинаю говорить крайне циничные вещи. В виде вопросов и ответов. Впрочем, некоторых это даже возбуждает.
— Поясните, — звучит наконец у меня в голове.
— Помните, в прошлый раз вы спрашивали, что такое армия?
— Помним.
Вот ещё одна странность: о себе они говорят только во множественном числе. Видимо, коллективный разум. Не надо смеяться, но одно время я подозревал в них колонию компьютерных вирусов, использующих человеческий мозг в качестве приёмной антенны. Кстати, это многое бы объяснило. Например, поступления на мой банковский счёт. Или, скажем, незнание простейших истин, совершенно для нас естественных и не нуждающихся в истолковании.
Однако, если они и вправду обитают в Интернете, что им мешало заглянуть в любой словарь?
— Так вот, — важно продолжаю я. — Чем трусливее каждый солдат в отдельности, тем храбрее армия в целом. Как видите, тот же самый парадокс.
— Почему так?
— Потому что, если солдат бесстрашен, он прежде всего перестаёт бояться своего командира. Если же труслив, то предпочтёт доблестно погибнуть, лишь бы не получить взыскания.
— Что такое взыскание?
Я не тороплюсь с ответом. Окидываю критическим взглядом свой новенький «фордик» и с удовлетворением отмечаю, что его жемчужный окрас и впрямь весьма удачно сочетается с мягкими тонами моего прикида.
Как хотите, а мне нравится нынешняя работа. Самое подходящее занятие для стареющего эгоиста, который в последнее время только и делал, что, сидя на лавочке, ненавидел окружающее да копил жёлчь. Разумеется, я слегка измываюсь над моими незримыми спонсорами, но они этого, кажется, не замечают. Или делают вид, что не замечают. Тут ещё поди пойми, кто над кем измывается. Впрочем, какая разница! Главное, что мы вполне довольны друг другом.
Иногда вижу Ефимыча, поскольку тоже перебрался в центр — так сказать, поближе к очагам цивилизации. По-моему, предшественник мой не благоденствует и, скорее всего, сожалеет о том, что уступил кормушку. Но, полагаю, другого выхода у него не было. Для подобных ему чудил называть вещи своими именами означает лишиться в итоге последних иллюзий, а это им, поверьте, мука мученическая.
Мне проще. У меня действительно давно уже не осталось ничего святого. И, стало быть, нет такого вопроса, который смог бы меня смутить.
На ступени под колоннами начинает стекаться народ с какими-то плакатами. Кто-то что-то выкрикивает.
— Что происходит? — интересуются мои невидимки (о взысканиях мы к тому времени успели переговорить).
— Митинг, — отвечаю со скукой. — Порядка требуют.
— Что такое порядок?
— Порядок, — небрежно объясняю я, — это когда тебе и таким, как ты, живётся хорошо, а не таким, как ты, плохо.
— Зачем?
— Что «зачем»?
— Зачем живётся?
Эх, ничего себе! Недооценил я, выходит, своих экскурсантов. Озадачили. Так с лёту и не ответишь.
— Н-ну, скажем… ради продолжения рода. Чтобы рожать детей.
— Зачем?
— Чтобы рожали детей…
— А дальше?
— Чтобы рожали детей, чтобы рожали детей… Могу и дальше.
— Вы тоже продолжаете род?
— Спасибо, уже продолжил. Больше не хочется.
— Тогда зачем живёте?
— Хороший вопрос, — невольно усмехаюсь я.
— Нет, — с сожалением поправляют меня. — Вопрос плохой. Но вам придётся на него ответить.
Бакалда — Волгоград, октябрь — ноябрь 2008